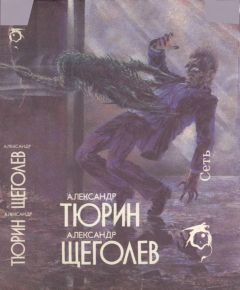За ним вошли столь же нарядно одетые мальчишки – сверстники ее воспитанниц. Такие же шапки – только пока бесперые, и кокарды попроще. Такие же кунтуши – только украшений меньше. Такие же сабли на поясах. Встали молчаливым, плотным и ровным строем, пожирая взглядами стайку ее учениц.
– Панна Вишневецкая? – щеголь резко наклонил коротко остриженную голову, словно клюнул что-то ястребиным носом. Точно также кивнули-клюнули за его спиною мальчишки. – Честь имеем!
Она присела в глубоком реверансе, слыша, как шуршат за спиною платья институток, повторяющих ее движение:
– Пан Басманов, рады видеть пана.
Басманов крякнул, отпустив саблю, огладил усы, вздохнул полной грудью и произнес:
– Панна Вишневецкая Наталья Андреевна, я и мои воспитанники (вновь дружный кивок двух десятков коротко остриженных голов) имеем честь от лица Московского шляхетского училища приветствовать Вас и Ваших воспитанниц (вновь шорох подолов по лаковому паркету) и пригласить на пикник и бал, устраиваемый городским дворянским собранием в честь знаменательной даты, объединившей юбилей августейшей династии с юбилеем венчания первого Императора Российского.
Он подошел к ней и протянул руку, словно приглашая на мазурку – а где-то и впрямь полетела лихая мазурка по теплому воздуху позднего, клонящегося в вечер майского дня – и она вложила свою руку в его, а рядом уже высокий мальчишка с длинной кадыкастой шеей, нервически сглатывая, протягивал руку Анне Салтыковой, и следующие едва не наступали ему на шпоры…
Последним, об руку с маленьким, веснушчатым, очень важным Кириллом Ляпуновым, классную комнату покинула Ксения Трубецкая. Уходя, она скользнула взглядом по портрету, висевшему над классной доскою. С него темноволосый молодой человек в стальных старинных латах, держа одну руку на гарде клинка, а другую – на столе, где лежал его пернатый шлем, сумрачно вглядывался в пространства, словно пытаясь найти ответ на терзающее его сомнение.
Это лицо стояло у нее перед глазами, когда остальные кричали, подбрасывая вверх шляпки, «Ура» чеканившим шаг гвардейцам, монументальным кавалергардам с палашами на мощных плечах, и, наконец, новейшему изобретению господина Менделеева – исполинам-катафрактам, словно еще глубже вминавшим стальными траками в землю древнюю брусчатку Пожара… когда остальные щебетали о модах, лошадях, новых спектаклях и пели под гитару… когда ее увлекал вслед за прочими по паркетам Дворянского Собрания бешеный вальс Вольфганга Штрауса «Так говорил Заратустра» (Панна Ксения, а вы читали Федора Ницкого? Нет… то есть да, читала, только он мне не понравился… Ну что вы, это же светило славянской мысли! Его «Генеалогия морали»… Ах, право, не знаю, пан, мне более нравятся Хомяков и пан Достоевский), вклинившийся меж краковяков, мазурок и чинных менуэтов… когда все, вопя от восторга, кинулись к французским окнам, за которыми, в бархатно-черном небе над столицей, вспыхнули огненные письмена
1612–1912
и когда все кричали, хлопая в ладоши, она беззвучно шевелила губами, шепча этому юноше с состарившимся от тяжелой думы лицом:
«Это не зря, не зря, слышишь? Посмотри, если бы ты тогда не позволил Собору Сословий исполнить свой приговор – этого всего бы могло не быть… не было бы державы от Кордильеров до Одры… и университета в Москве, и аэроптеров в небе… и этого бала… и нас!.. пожалуйста, услышь меня—ты не зря сделал это!».
Только она не знала, слышит ли ее сейчас человек, под чьим портретом в классной комнате сияла начищенная медная дощечка:
Дмитрий I Иоанноеич
Справедливый
Император Российский, король Польский, Великий князь
Литовский, и прочая,
прочая, прочая
1582–1634 A.D.
Но что это был за взор… О, господи! что это был за взор!..
То был взор, светлый, как сталь, взор, совершенно свободный от мысли, и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний.
Голая решимость – и ничего более.
М. Е. Салтыков-Щедрин
Сон не шел. Бессонница в последнее время все чаще становилась Его ночною подругой – или это сам Сон бежал, страшась заглянуть в Его глаза? Он подошел к столу, на котором лежала папка с пометкой «Особо срочно». Новости ушедшего дня – почти уже не новости. Они – как следы сползшего за горизонт окровавленного, умирающего солнца, цеплявшегося за багровые тучи алыми пальцами. Цвет заката, казалось, имел запах – только одно путалось: запах засыхающей крови или гаснущего пожара?
Пальцы коснулись гладких, холодных – как кожа мертвеца – листов бумаги с вычурными готическими, похожими на шествие маленьких черных скелетов, строками. Новости ушедшего дня – так и есть, это все новости уходящих, почти уже ушедших, только все еще страшащихся этого, бесполезно цепляющихся за иллюзию сопротивления, активности – иллюзию жизни. В Америке копошился и интриговал бывший Лев бывшей Революции, бывший главком бывшей РККА, все не в силах понять, что больше никому – нет, не не нужен даже – не интересен. Его главный враг уже мертв, система, которую он строил, знал, рассыпалась вдребезги. Его шушера, лизоблюды, оголодав у опустевшего стола, переметнулась к новому хищнику. Еще одни бывшие, не осознавшие этого, не понимающие, что Ему не нужны шакалы.
Впрочем, кое-кто пока полезен, вроде того же Власова, и соответственно, пока жив. Танки Вальтера Моделя, пройдя сквозь рыхлую тушу Ирана, вытоптали попытки солдат бывшей Британской Империи удержать нефтяные вышки, да так быстро, что те не успели их поджечь – и они на что-то надеялись, и они не понимали, что уходят, безвозвратно, окончательно, как этот закат за окнами рейхсканцелярии. На Сибирском фронте отряды РОА гнали к Омску огрызающиеся банды Рокоссовского. Впрочем, тон победных реляций Власова отдавал истерикой – генерал явно начинал задумываться, что станет с ним, когда враги будут уничтожены, а он сам, соответственно, уже не нужен Фюреру. Как будто у него был выбор.
Хотя эти жалкие твари, только внешне похожие на людей, тем и отличались, что не в силах были глядеть в мертвые глаза Скульд – пряхи Грядущего, самой злой и безумной из Норн. Для этого надо было иметь такие же, вымерзшие до донышка, глаза.
Такие, как у Него.
Этот Рокоссовский – Власов слишком долго с ним возится. Чересчур европейцы. Оба. В Жукове все же хотя бы мерещилось что-то похожее на настоящего – так хладнокровно он стелил под траки победоносного Вермахта покорную восточную биомассу. Фюрер был искренне разочарован, когда оказалось, что это всего лишь животная тупость получившего на мгновение власть скота. Увы, сомнений в том не было – ему продемонстрировали пленку, на которой попавший в плен красный маршал с перекошенным мясистым лицом, трясясь, клялся в верности Фюреру и Рейху, обещал положить жизнь на алтарь «освобождения православной Руси от красных антихристов»… Было очень неприятно осознавать свою ошибку, осознавать, что принимал за гунна, за нового Аттилу этого… Смердякова. Если бы он изначально не вызывал иллюзий, у него бы еще был какой-то шанс – хотя бы на время. Человек в черном мундире, похожий на школьного учителя, тихо спросил: «Что с этим, мой фюрер?». Ничего не ответив, Он только поглядел пару мгновений в поблескивавшие во тьме кинокабинета Рейхсканцелярии стеклышки очков в тонкой оправе – и человек в черном мундире понятливо склонил аккуратную голову, растворяясь во тьме.