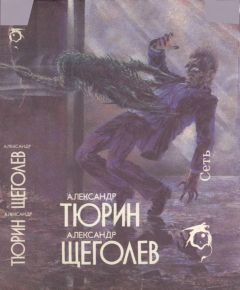Потом был ноябрь двадцать третьего – Он помнил каждую секунду этого пронзительно-холодного месяца и кровь закатов, обещавшую бурю. Та буря оказалась недостаточно сильной, чтобы снести наслоения гнили и лжи – что ж, Ему было не впервой оправляться после поражений. То, что не убивало Его – делало Его сильнее… кому-кому, а Ему не надо было лезть в ранец за томиком Ницше, рваное железо строк «Заратустры» жило в Его крови, иногда Ему просто казалось, что никакого такого Ницше не было, что «Ницше» – лишь сполох, отсвет, отброшенный в прошлое Его жизнью и Его судьбой, настолько Своими ощущал Он слова Базельского Безумца. Он проиграл тогда – но Его враги не смогли даже воспользоваться победой, не смогли расправиться с Ним – тем прочнее укрепилось в Его душе презрение к ним, возомнившим, что вправе судить Того, Кого не смеют уничтожить. Он, конечно, не повторил их ошибок – а буря все же пришла. Он победил – Он и те, кто пошли за Ним. А победив, Он начал строить новую цивилизацию, новую мораль, новый народ…
Потом был еще случай, окончательно укрепивший бы Его веру в Судьбу – если бы этой вере еще требовалось укрепление. Тридцать девятый год, девятое ноября – Его Судьба за что-то любила этот месяц, который предки-тевтоны называли Нибелунг. Несколько минут отделило Его от взрыва бомбы – приближенные ужасались: «Если бы чуть раньше!..» Этих Он запомнил и не доверял им серьезных дел и решений – «если бы» существует для тех, кто не верит в Судьбу.
Фюрер оторвал высокий прохладный лоб от соединенных кончиками в готический свод пальцев, открыл глаза, поднялся из кресла. Подошел к зеркалу, встал напротив разглядывая Свое лицо – так солдат перед смотром оглядывает форму. Годы не пожалели Его – все-таки Его тело было человеческим телом. Лицо иссекла рунная вязь морщин, поредевшие волосы, брови, усы тронул иней. Не изменились глаза – не зря русские называют их зеркалом души. Они были все такими же голубыми, прозрачными и мертвыми, а на дне поблескивал осколком ледяного зеркала неживой блик безумия. За всю Свою жизнь – Свою, а не тела – Он так и не встретил человека, способного выдержать их прямой взгляд, и в те годы, когда был еще способен удивляться, слегка недоумевал, отчего сам способен смотреть в зеркало, в отличие от легендарных горгон и василисков.
Вспомнилось недавнее – Скорцени, совершивший невозможное, выкравший Сталина прямо с Куйбышевского аэродрома, куда тот прилетел, спасаясь из обложенной частями вермахта и союзников Москвы. За день до казни Фюрер пришел – один, без охраны, накинув на плечи старую фронтовую шинель – в камеру к пленнику. Тот повернулся, резко шагнул навстречу – и остановился, наткнувшись на мертвый взгляд ледяных глаз. Эти глаза вглядывались в желтые тигриные зрачки, пока ненависть и холодная ярость не сменились ужасом и отчаянием загнанного зверя. Пленник закрыл лицо руками и опустился на койку, а Он повернулся и вышел, не разжав сцепленных за спиной рук, не унизившись до улыбки или хотя бы проблеска торжества во взгляде.
На следующий день они принимали парад победоносного Вермахта на Красной Площади. Фюрер стоял на трибуне опустевшего Мавзолея, над панелью со сбитыми буквами, глядя чуть выше рядов пилоток, кепи, стальных шлемов, и держал левую руку на лежавшей на парапете отрубленной – собственноручно, по старой привычке – голове великого врага. Короткие седые волосы приятно покалывали ладонь. Стоял все тот же месяц Нибелунг.
Теперь эта голова стояла здесь, на рабочем столе, седая от кристалликов соли – так сохраняют головы врагов и святых монголы. А сам парад отсняли на кинопленку, обошедшую полмира – и конечно, стада двуногих со скотским любопытством валили посмотреть на шикарное зрелище, не подозревая, что разглядывают смертный приговор всему их болотному мирку, а для двух третей – и тому жалкому копошению, которое они по глупости считали жизнью. Впрочем, снимали не для них – для тех немногих, кто был способен услышать звучащий в картине Зов. И быть готовым, когда Он придет к ним.
Фюрер перевел взгляд с зеркала на портрет – написанный в Мюнхене, в далеком 1922 году. В углу – дата и вензель художника – А. Ш. Да вот ведь он, создатель проекта памятника, стоявший рядом в первые дни партии, запечатлевший все – и крест на груди, и родовой тевтонский меч-двуручник рядом, и узорный халат, вывезенный из глубин Монголии. Достойный художник – Адольф Шикльгрубер. Только слегка раздражает верноподданническая табличка внизу на раме – как будто нужны подписи и таблички изображениям Христа или Будды, как будто кто-то способен не узнать Его:
«Рейхсканцлер и Фюрер Германского народа
Роман Унгерн фон Штернберг».
Лев Прозоров
Я хочу стать космонавтом
Глеб смотрел в окно. За окном падал снег, медленно танцевали снежинки, и сквозь их хоровод едва можно было различить крыши домов возле школы, невысоких, почти сплошь одноэтажных. Глеб, родившийся и выросший среди таких же, по первости очень робел, когда впервые увидел громаду красного кирпича – школу – в целых четыре этажа! На коловращение снежинок хотелось смотреть и смотреть… рядом притих класс, ребята склонились над тетрадками, тщательно выводя буквы, чуть наискось, изредка перелистывая тетрадные страницы, вздыхали, скрипели перьями ручек. Отопительная труба грела бок. А за окном качалось-баюкало белое марево…
Глеб медленно отвел глаза от холодного оконного стекла – и словно натолкнулся на взгляд – всевидящий, мудрый, чуть-чуть устало прищуренный – с портрета над доской.
Уши Глеба над твердым воротничком школьного кителя налились алым жаром, отогнавшим навеянную снегопадом прохладную дремоту.
«Ну что, Глеб? – словно спрашивал портрет. – Бездельничаешь? Когда твои товарищи, когда весь наш народ – трудятся, не покладая рук?».
Про себя он, конечно, не сказал. Он скромный. И мудрый – он, конечно, знает, что Глебу известно, кто трудится больше всех, не спя долгими ночами там, в далекой столице.
Урок шел уже десять минут. А на открытом листе тетради еще не было ни одной буквы, кроме заголовка сочинения: «Кем я хочу быть, когда вырасту».
Глеб решительно макнул перо в чернильницу и вывел первую фразу: «Я… хочу… быть…». Дальше было длинное слово, и было очень-очень важно не ошибиться в нем – оно было самое главное. «Ка… а… нет, о… ко… сы… кос… мэ… косм… о… ны… а… вэ… космонав… ты… о… мэ… космонавтом».
«Так, так, Глеб, молодец, – улыбался портрет со стены, укор покинул его пристальный взгляд. – Теперь пиши дальше. Напиши, как космонавты, эти отважные люди, лучшие сыны нашего трудового народа, выполняя волю Партии и правительства, штурмуют звездные просторы, с какими трудностями они сталкиваются, какие чудеса видят, какие подвиги совершают».