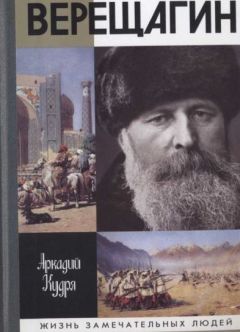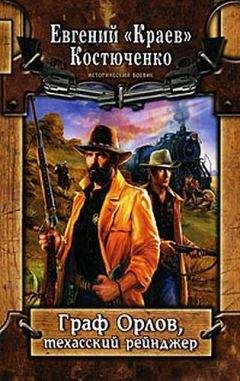Всю эту историю Верещагин слышал от Ии на самом деле, но сон есть сон, и в нем реальность надо перемежать фантазией. «А-а! – вдруг кричит Верещагин. – Который час? Который час? Боже мой, уже три часа ночи. Печь нужно было разгружать в половине второго, мы просрочили время, что же ты сидишь, Ия, разболталась, черт возьми!»
И он выскакивает из кабинетика в цех, оглашая его горестным криком: «Все пропало, меня и отсюда выгонят!»
Автоклав пышет жаром, к нему не подходи, но Верещагин мужественно бросается в самое пекло, он рвет на себя рубильник, обжигаясь, крутит запорный винт, раскаленная струя газа – будто из земных недр – ударяет ему в лицо. «А-а-а! – кричит Ия. – О-о-о! Смотрите! Товарищ Верещагин, что это?»
Неземной красоты и силы луч бьет в глаза, Верещагин – зажмурившись, отпрянув – делает протестующий жест: нет, мол, не верю, не может быть… «Не может этого быть! – кричит он. – Это сон или явь?» – очень интересный прием, редко встречающийся в сновидениях: когда события настолько поразительны, что даже у спящего возникают сомнения в их реальности. «Явь это или сон? » – кричит Верещагин и открывает глаза – не на самом деле, а во сне, так как перед этим зажмурился. Он открывает глаза, чтобы еще раз взглянуть на поразившее его явление.
Переливаясь всеми красками вселенной, лежит в графитовом тигле ослепительной красоты кристалл, не виденный доселе ни одним из смертных. «Бриллиант? – шепчет потрясенная Ия. – Карбункул?» – «Ну, нет! – отвечает Верещагин. – Бери выше», – он уже справился с первым смятением, и его мозг, лихорадочно перебирая химические и математические формулы, пытается разгадать природу сверкающего в тигле феномена. «Минуточку! – кричит он и бросается в кабинетик. – Пальцами не трогать!» – отдает он Ие приказ на бегу и, сев за стол, молниеносно исписывает горы бумаги. «Так… так… – бормочет он. – Компоненты шихты известны, температура, конечно, гораздо выше расчетной, кроме того, затянутый режим… Ага… Ну да… Конечно… Ия! – кричит он, и Ия вбегает в кабинетик, выставив перед собой указательный пальчик правой руки – огромный волдырь на нем. – А! – говорит Верещагин. – Все ж не утерпела, потрогала-таки, неслух!.. Скажи, окисла диспрозия ты положила точно по норме? Только говори честно, не лги, помни, что лгущий обрекает себя на бесплодие, а Аркадий может еще встретиться». – «Я положила немножко больше», – признается Ия, смущенно прикрывая огромные глаза тяжелыми жалюзи век и застенчиво опуская вниз изящную громаду носа. «Больше? – переспрашивает Верещагин. Он поражен тем, что счастливая ошибка оказалась преднамеренной. – Но для чего? С какой целью?» – «Вы как-то заметили вскользь, – стыдливо произносит Ия ярко-красной раной своего рта, – что интересно бы попробовать побольше диспрозия… Вы сказали, что нутром чувствуете, что если прибавить диспрозия, да еще времени и жару, то должно получиться что-то необыкновенное… Вот я и попробовала. Извините меня».
Верещагин встает, душа его ширится. «Ну что – ругать тебя или хвалить? – спрашивает он громко и победно. – Итак, ты услышала мое неясное бормотание и воплотила его в жизнь… Господи, сколько великих идей пробормотал я за свою жизнь, но никто не дал себе труда прислушаться и внять… Только ты, Ия, чуткое у тебя ухо, да святится имя свое! Но понимаешь ли ты, смелая душа, что, если б моя догадка оказалась неверной и гексагональный тетрасекстаоктаэдр не создался бы, ты была бы уволена? И никакие ссылки на мое неясное бормотание тебя не спасли бы!» «А я бы и не упомянула о них, – прошептала Ия букетом своего рта. – Я с самого начала решила, что только в случае удачи признаюсь, что сделала это по вашей догадке, товарищ Верещагин».
Тут Верещагину захотелось торжественно объявить Ио, что его зовут Аркадий, но даже для сновидения это было бы слишком, и он ограничивается тем, что молча пожимает Ие руку. В его глазах закипают слезы благодарности и восторга.
116
Он пытается вскочить, но запутывается в простыне, барахтается, простыня трещит. Верещагин садится на постели. Глаза его сухи. «Чем я занимаюсь? – говорит он. – Я сны сочиняю! Научно безграмотные сны! А жизнь; идет! Проходит!»
Два часа ночи. Силы бурлят в Верещагине. Он выпрыгивает из кровати, как кузнечик из травы, включает свет, озирается. Довольно! Сейчас он займется делом. Где чемодан? Вот он! Где папка? Вот она! Родная, драгоценная, вожделенная, обветшавшая!»
Верещагин вспоминает, как неделю назад взял ее и тут же бросил обратно в чемодан, потому что внезапно почувствовал слабость и отвращение. Бессилие и страх!
Сейчас иначе. Сейчас он смотрит на нее с любовью.
Долгожданный момент, думает Верещагин. Ночь, о которой он мечтал много лет. Начало новой жизни. Сейчас он гордый и всесильный. Сейчас он раскроет папку и… Но есть ли чистая бумага? Ага, вот она, целая пачка!
Папку на стол! Чистую бумагу на стол! Внимание, начинается работа. Через месяц он напишет профессору Красильникову: все готово. Месяца хватит? Господи, если по-настоящему взяться, хватит и недели! Главное, чтоб силы били изнутри кипящим ключом, как сейчас.
Историческая ночь! Впрочем, надо одеться. Верещагин наспех натягивает брюки, рубашку, бежит на кухню, заваривает крепкий чай. Сил и так предостаточно, но немножко взбодрить себя никогда не помешает. Он выпивает чай залпом и бежит обратно в комнату.
«Историческая ночь!» – думает он и включает радиоприемник. Только на пять минут, поймать одну-две хорошие мелодии, коснуться слухом гармонии небесных сфер – это тоже бодрит и очищает. Музыка – высшая обусловленность, язык, так сказать, богов, почему бы не послушать бормотание Вседержителя перед вдохновенной работой, кристаллы ведь – та же музыка, та же высшая обусловленность; нотный стан – кристаллическая решетка.
Пять минут высшей обусловленности – и за работу. За работу!
Обусловленность обусловленностью, но когда этот чертов регулятор громкости разболтался и набрасывает на божественный звучащий рот грязное покрывало из шорохов, потрескиваний… Если человек готовится решить проблему абсолютной гармонии, то ему, конечно, от этих шорохов становится тошно.
Можно бы, конечно, выключить приемник и отложить ремонт регулятора на завтра, но тогда на душе останется неприятный осадок, чувство, будто пошел на нравственный компромисс.
«Это пять минут», – решает Верещагин и принимается им дело.
Пустяк ведь! Если взяться с энергией и умением, то и пяти минут много: приемник – на пол, задняя крышки – прочь, два винта отвинчены, и вот уже панель сама вываливается наружу.
Все в порядке – добрался Верещагин до забарахлившего потенциометра, проделал в его корпусе гвоздиком из коллекции маленькую дырочку где надо, впрыснул масленкой внутрь каплю машинного масла.