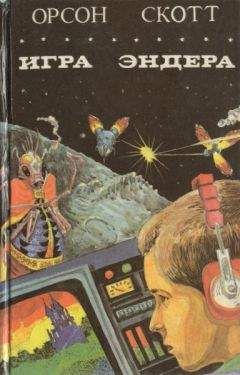Теперь он был здесь, забрызганный грязью, с лицом более чем обычно грубым, с настойчивым взглядом, с мокрыми волосами, облепившими лицо и уши. Куда же он смотрит? Его глаза смотрели только на нее, даже при том, что она бессмысленно уставилась на него. «Почему ты смотришь на меня?» — безмолвно спросила она. «Потому что я голоден», — ответили его глаза. Но нет, нет, это был ее страх, видение свинок-убийц. «Маркао никто мне, и независимо от того, что он думает, я никто ему».
Вдруг на миг у нее наступило прозрение. Ее поступок по защите Маркао для него значил одно, а для нее — нечто другое; ощущения были настолько различными, что не могли относиться к одному и тому же событию. Ее мозг связал это с убийством свинками Пипо, и эта мысль показалась ей очень важной, очень близкой к разгадке случившегося, но потом мысль ушла под напором разговоров и активности епископа, уведшего мужчин на кладбище. Здесь не использовали гробов, так как рубить деревья было запрещено, чтобы не тревожить свинок. Поэтому тело Пипо надлежало похоронить сразу, хотя отпевание должно было состояться не раньше чем завтра, а то и позже; многие хотели прийти на погребальную мессу ксенолога. Маркао и другие мужчины ушли в бурю, оставляя Либо и Новинью общаться с людьми, полагавшими своим неотложным делом следить за последствиями смерти Пипо. Самодовольные незнакомцы ходили взад-вперед, принимая решения, которых Новинья не понимала, а Либо не замечал.
Так продолжалось до тех пор, пока здесь не появился Арбитр. Он стоял около Либо, держа руку на его плече.
— Ты, конечно, останешься у нас, — сказал он, — по крайней мере сегодня.
«Почему у вас в доме? — подумала Новинья. — Вы нам никто, мы никогда не имели дела с вами. Кто вы такой, чтобы решать? Не означает ли смерть Пипо то, что мы вдруг стали маленькими детьми, не способными решать что-либо?».
— Я останусь со своей матерью, — сказал Либо.
Арбитр с удивлением взглянул на него — простая мысль о ребенке, противящемся его воле, очевидно, совершенно не соответствовала его опыту. Новинья знала, что это, конечно, не так. Его дочь, Клеопатра, бывшая на несколько лет моложе ее, изрядно постаралась, чтобы заработать свое прозвище «Бруксинья» — маленькая ведьма. Поэтому мог ли он не знать, что у детей есть своя голова на плечах и что они сопротивляются дрессировке.
Но его удивление было вызвано вовсе не тем, что предполагала Новинья.
— Я думал, ты понимаешь, что твоя мать тоже на время останется с моей семьей, — сказал Арбитр. — Эти события, несомненно, расстроили ее, и ей не следует сейчас заботиться о домашних делах или быть в доме, напоминающем о том, кого теперь с ней нет. Она у нас, и твои братья и сестры, конечно, и им нужен ты. Твой старший брат Жоао сейчас с ними, безусловно, но у него жена и ребенок, поэтому ты — единственный, на кого они могут положиться.
Либо мрачно кивнул. Арбитр не брал его под свое покровительство; он просил Либо быть покровителем.
Арбитр повернулся к Новинье.
— А тебе, я думаю, надо идти домой, — сказал он.
Только теперь она поняла, что его приглашение не относится к ней, да и почему бы? Пипо не был ее отцом. Она была только другом, оказавшимся рядом с Либо, когда было найдено его тело. Какое горе она может испытывать?
Домой! Где же еще может быть дом, если не здесь? Неужели ей нужно идти на биологическую станцию, где она не спала в своей постели больше года, за исключением минут отдыха во время работы? Неужели это ее дом? Она покинула его оттого, что он был так болезненно пуст без ее родителей; теперь ксенологическая станция тоже была пуста: Пипо мертв, а Либо превратился во взрослого со всеми его обязанностями, которые отвратят его от нее. Это место не было уже домом, но домом не были и любые другие места.
Арбитр увел Либо. Его мать Консейсао ждала его в доме Арбитра. Новинья почти не знала эту женщину, кроме как библиотекаря, заведующего архивом. Новинья никогда не общалась с женой Пипо и его детьми, ее не волновало их существование; только ее работа здесь, жизнь здесь были реальностью. Когда Либо выходил в дверь, ей показалось, что он стал меньше ростом, как будто он был далеко отсюда, как будто его подняло и унесло ветром, унесло в небо, как коршуна; дверь закрылась за ним.
Теперь она ощутила величину утраты. Изувеченное тело на склоне холма не было смертью, это было просто осколками его смерти. Сама смерть была пустотой в ее жизни. Пипо был скалой в бурю, такой твердой и прочной, могущей укрыть ее и Либо так, чтобы они даже и не почувствовали бури. Теперь ее нет, и буря может сделать с ними все, что захочет, может унести их туда, куда захочет. «Пипо, — мысленно позвала она. — Не уходи! Не покидай нас!». Но он уже ушел, не внемлющий ее молитве, как и родители.
На ксенологической станции все еще кипела работа; мэр сама работала на терминале, отправляя все данные Пипо по ансиблу во все Сто Миров, где ученые тщетно пытались понять причины смерти Пипо.
Только Новинья знала, что ключ к разгадке находится не в файлах Пипо. Его так или иначе убили полученные ею данные. Модели все еще висели в воздухе над терминалом, голографические образы молекул генов в ядре клеток свинок. Она не хотела, чтобы Либо изучил их, но сейчас она смотрела на них не отрываясь и пыталась понять, что увидел Пипо, пыталась понять, что же, увиденное в этих образах, заставило его бежать сломя голову к свинкам, сказать или сделать что-то, приведшее к его смерти. Она случайно открыла какой-то секрет, который свинки хотели бы сохранить даже ценой убийства, но какой?
Чем больше она смотрела на голограмму, тем меньше понимала, и через некоторое время она вообще не видела их, только какие-то цветные пятна сквозь слезы, и тихо плакала. Она убила его, потому что, даже не подозревая о том, открыла секрет пекениньос. «Если бы я никогда не пришла сюда, если бы я не мечтала быть Глашатаем Свинок, ты был бы еще жив, Пипо; у Либо был бы отец, и он был бы счастлив; это место было бы домом. Я несу в себе семена смерти и сею их везде, где задерживаюсь настолько, чтобы полюбить. Мои родители умерли ради того, чтобы жили другие; теперь я живу, чтобы другие умирали».
Именно мэр заметила ее отрывистые всхлипы и поняла, ощутив грубоватую жалость, что эта девушка тоже испытывает горе и смятение чувств. Боскинья поручила другим отправлять сообщения по ансиблу и вывела Новинью из помещения станции.
— Прости меня, малыш, — сказала она, — я знала, что ты часто приходила сюда, мне следовало догадаться, что он для тебя был как отец, а мы здесь отнеслись к тебе просто как к очевидцу, это было непорядочно и неверно с моей стороны, пойдем ко мне домой…
— Нет, — ответила Новинья.
Холодный и влажный ночной воздух выветрил горестные ощущения, и к ней вернулась ясность мышления.
— Нет, пожалуйста, оставьте меня одну.
— Где?
— На моей станции.
— Ты не можешь остаться одна со всем этим на душе, — сказала Боскинья.
Но Новинья не могла даже представить себе общение с кем-либо, проявление доброты и попытки утешить ее. «Я убила его, разве вы не видите? Я не заслуживаю утешения. Это мое покаяние, мое искупление и, если это возможно, мое прощение; как еще могу я очистить свои руки от крови?».
Однако у нее не было сил сопротивляться или спорить. В течение десяти минут машина мэра неслась над травянистой дорогой.
— Вот мой дом, — сказала Боскинья. — У меня нет детей твоего возраста, но тебе, я думаю, будет хорошо. Не волнуйся. Никто не будет докучать тебе, но оставаться одной нехорошо.
— Я бы предпочла остаться одна, — Новинья пыталась придать своему голосу уверенность, но он прозвучал слабо и вяло.
— Пожалуйста, — попросила Боскинья, — ты сама не своя.
— Хотела бы я, чтобы это было так.
Аппетита у нее не было, хотя муж Боскиньи приготовил им кофе. Было уже поздно, до рассвета оставалось несколько часов, и она согласилась лечь спать. Позже, когда весь дом затих, она встала, оделась и спустилась к домашнему терминалу. Затем она скомандовала компьютеру отменить выдачу изображения на терминал ксенологической станции. Несмотря на то, что она не могла найти разгадку секрета, найденную Пипо, кто-нибудь другой мог это сделать, а она не хотела брать на свою совесть новую смерть.
Потом она вышла из дома и направилась через центр, вдоль излучины реки по Вилья дас Агуас к ксенобиологической станции. К ее дому.
В жилом помещении станции было холодно — она не спала здесь так долго, что на простынях скопился толстый слой пыли. Но в лабораторных помещениях было тепло и чувствовалась жизнь — работа никогда не страдала от ее привязанности к Пипо и Либо, если даже такое и было.
Она очень скрупулезно относилась к своей работе. Каждый образец, каждый препарат, каждая культура бактерий, использованные ею в исследованиях, вели мало-помалу к смерти Пипо — она выбрасывала их, отмывала дочиста, не оставляя даже следов проведенной работы. Она хотела не только выбросить все, но и не оставить следов проведенных исследований.