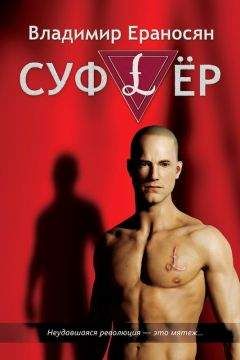Э, да я на кладбище! Матерь божья, еще один могильник…
Земля, на которой я сидел и по которой полз, — трупы. Холм, поднимающийся впереди, — трупы. Ямы, рытвины, борозды — тела, торчащие конечности, головы. Трупы, трупы, трупы…
Никаких эмоций у меня не возникло. Я сам был труп, непонятно только: бывший или еще настоящий. Зрелище царства мертвых вызвало лишь оцепенение. Примостив огонек на «землю», я тупо уставился на свалку из тел. Обступающий со всех сторон мрак не сулил ничего хорошего, и я туда не торопился.
Похоже, бессмертие живых богов сослужило плохую службу обитателям здешнего мира. Для них смерть не несла в себе ничего сакрального. Ей отвели место нужника, куда попадают все простые обитатели, не преисполненные вечного существования. Как часто изобилие ведет к деградации! Изобилие уничтожает понятие ценности. А с дешевой вещью и поступают соответствующе.
Тот, кто устроил кладбище из животных в стерильном мире, тот, кто сваливал тела умерших год за годом, век за веком сюда, — тот человек, или, вернее, существо, презирал свою или чужую смертность. Как только ты умер — ты ничто, отброс. Возможно, именно поэтому ен-чуны так почтительно относились к Ари: она помогала им жить, поправляя их здоровье, удерживала от падения в эту яму.
Наверное, здесь находилось местное кладбище. Язык не поворачивался называть его так. Могильник — вот его название. Кладбище предполагает заботу об умерших. Даже заброшенная и неухоженная могила свидетельствует о том, что был хотя бы факт похорон, когда оставившего мир опускают в землю согласно традициям, а не бросают в общую кучу.
Черт, трупы! Мысль заставила оглянуться. Это же
гниение, мухи, смрад! Тем более в такой планетарной братской могиле. Но здесь ничего такого нет. Неужели здесь тоже стерильно?
Посмотрев вниз, я вгляделся в то, на чем сидел. Переплетение тел, тусклый свет… Под ногой обнаружился ен-чун, рядом еще один. Дьявол! Попытка вглядеться в них опять вызвала резь в глазах. Даже мертвые, они не желали выглядеть нормально! Но сквозь раздвоение в глазах я видел, как темны их мертвые лица, чересполосица внешнего вида не могла скрыть черных провалившихся пятен. Значит, с гниением тут все в порядке. И я бы тоже слился в конце концов с обитателями этого ада в одно разложившееся целое…
Мое бесчувственное тело не воспринимало всей отвратительности происходящего. Я знал, что вокруг ужасно и гадко, но не ощущал ничего. Может, оно и к лучшему. Иначе бы я умер от омерзения.
Хорошо, что я не ощущал времени. Ползешь, ползешь, в кулаке зажат огонек, взбираешься на холмы, спускаешься вниз, бредешь по смертным полям. Сантиметр за сантиметром, никуда не торопясь.
Сколько я тогда полз — мне никогда не узнать. Если мерить в земных сутках: день, два? Неделю? Или даже дольше?
Как жук в пустыне. Бесконечная пустыня, микроскопические размеры жука по сравнению с ней, и вместо песчинок — трупы.
Когда впереди показалось свечение, жук (то есть я) Даже не ускорился. Что для жука оазис впереди, если позади целая вечность пустыни? Песчинки все так же проваливаются под ногами, и их слишком много, чтобы вот так сразу забыть. Даже если в оазисе кроется твое спасение, невозможно вскочить, закричать: «Ура-а-а! Я спасен!» Невозможно и немыслимо, потому что лапки переставляются одна за другой, одна за другой, песок с° скрипом проседает под одной, под другой, и вечная пустыня только и ждет, как бы посмеяться на тобой и Над твоей надеждой.
Трупы закончились, неровное каменное плато стало резать коленки, а я все полз и полз на четвереньках Лишь когда свет стал ярче моего огонька, когда стало видно далеко вперед, я тупо остановился и плюхнул на задницу.
Впереди виднелось большое озеро, или что-то похожее на него, затянутое светящейся голубой дымкой Сверху по-прежнему нависала тьма, — я представлял себя в огромной пещере, — но что это было на само деле, не знал. Озеро уходило вдаль, конец его терялся сумраке. Каменный берег резал вправо и влево рублеными выступами, постепенно поднимался, стремило вверх. Оставленный позади могильник чернел беспросветной тьмой, куда не было ни малейшего желания возвращаться.
Я поднялся. Впервые я встал на ноги. Ноги держал крепко, голова не кружилась, но тело почти не ощущалось, оно напоминало деревяшку, хотя и поддавалось командам. Я шагнул — ноги достаточно уверенно сделали шаг. Но поскольку напряжения мышц я практически не чувствовал, то видел себя будто со стороны, управлял собой, как радиомоделью.
Оглядел себя. Все те же джинсы, куртка, футболка и кроссовки. Теперь их можно выставлять на Сотбис — они прошли все круги ада. Уйдут подороже, чем скафандр Армстронга. Только, вот черт! Футболка порвана. На груди. Там, куда ударил И-са…
Мятый неровный разрыв. А крови нет. Футболка, конечно, грязнущая, но она должна быть покрыта засохшей кровью! А тут — ничего. Я задрал ее вверх, прижав подбородком.
Как новенький! Волосатая моя грудь послушно поднималась-опускалась, и не было в ней дыр, не было крови, разрезов, шрамов. А ведь И-са пробил меня насквозь, этого мне не забыть никогда. Переломы помнятся очень долго, иногда всю жизнь. Ощущение пробитой насквозь груди вместе с позвоночником я буду помнить и сто реинкарнаций спустя. Когда то целое, прочное, родное, что было самим тобой, твоей плотью, пристанищем жизни, вдруг за мгновение разрушается в страшной боли, и дикий ужас отключает все мысли, и невыносимая смесь детского страха, беспомощности и обиды заполоняет сознание кошмаром: все, больше ничего не будет никогда, — это невозможно забыть даже после смерти, потому что это сама смерть.
А сейчас я снова целый. И не осталось ничего, никаких следов, кроме порванной футболки. И в этот миг я вдруг вздрогнул. Осознание того, что произошедшему не может быть никакого объяснения, вместе с памятью о перенесенной гибели вдруг впервые заставило меня ощутить себя частицей чего-то большего, чем есть только я сам и все, что мной воспринимаемо. Столь явственная демонстрация моей ограниченности вдруг сдвинула какой-то огромный пласт в моем сознании. Мир, видимый до этого изнутри самого себя, вдруг стал в сто раз больше, я словно взглянул на себя со стороны, впервые признав собственную ограниченность.
В такие моменты люди начинают верить в бога. Но понятие «бог» на Земле обросло таким огромным количеством смыслов, настолько потеряло границы, четко отделяющие его от других понятий, что обратиться к тому неведомому, что я ощутил, как к богу, было бы для меня профанацией глубины и важности перенесенного изменения мировоззрения.
Вдобавок еще одна мысль тревожила меня. Перенеся не поддающуюся объяснениям трансформацию, ответственным за которую можно было признать только нечто высшее по сравнению со мной самим, я явился сутью и выражением этих высших сил. И дьявол шептал мне на ухо, что, возможно, я сам и есть «высшие силы». Я ощущал почти физически, как сдвинувшийся континент в океане моего сознания еще не нашел нового пристанища, не остановился, и окончательные ответы мне еще не доступны.