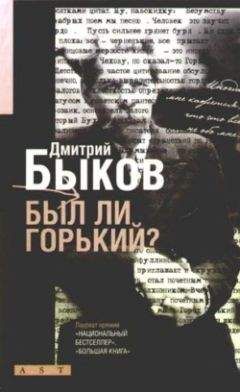— Товарищи дорогие! Ну куда ентому на ентакую должность (вариант, писать ентакие законы). Он на море не бывал. Богу не маливался, мышей не ловил, пороху не хавал, кровавой юшки не пускал, жопы не рвал, пупка не развязывал, носу не казал, слезами не умывался, седьмым потом не прел, страшной тугой не тужился, страшным пыжом не пыжился, корявой карякой не карячился! Его ли избрать нам в правители!
Доходило до того, что иные новые русские, которых проталкивали на высшие министерские посты, оставляли свои «мерседесы» за три километра от Веча, чтобы заодно и в пробках не мучиться, а оставшийся путь проделывали бегом, чтобы как следует запотеть. Василий, впрочем, отлично унюхивал беговой или тем более саунный пот, мгновенно отличая его от трудового. Иному кандидату в премьеры — а было их в те времена немерено, успевай голосовать, — случалось ради утверждения специально дня три постругать либо пофугать чего-нибудь, чтобы представить Василию мозоль и запах. Никто не догадывался ему объяснить, что мозоли да водянки набивают себе главным образом неумелые, неловкие работники: при виде гладких и крепких ладоней без признаков мозоли Василий заводил попевку про ненюхавших и непахавших.
Вторая его функция была дискуссионной и заключалась в том, чтобы вклиниться в какую-нибудь хитрую полемику по-простому, по-рабочему, то есть с кулаками. Спорят, допустим, два хиляка о кейнсианстве: один говорит, что Кейнс нам годится, другой — что мы и без Кейнса окочуримся. Василий до известного момента слушал, мучительно соображая, который из двух оппонентов больше тянет на пролетария: вроде и тот нехорош, и этот классово чужд, но тот как будто припахивает сильнее… хотя, может, это он от страха вспотел? В конце концов Василий обычно брал сторону того, что потолще, потому что такой союзник представлялся ему более надежным. Естественно, ни про какие кейсы он слыхом не слыхал и полагал, что рабочему человеку они даром не нужны (он и к дюпелю со шпинделем традиционно относился с недоверием, заменяя их в обиходной речи универсальным термином «фиговина» — или, если фиговина была поменьше, «фигнюшечка»). Но когда спор переходил в критическую фазу, то есть оппоненты срывались на крик, Василий коршуном прядал на спорщиков и начинал с кулачками налетать на более худого:
— Я те покажу кейс! Ты будешь задом клюкву давить, ты телят почнешь гонять, ты станешь в землю рогом упираться, ты забудешь, как мать-отца зовут! На вас всех кандалы выкованы, гробы вытесаны, смирительные рубахи пошиты! Я тебя в порошок сотру, в колобок скачу, в потолок вкручу… — на этих словах Василий обычно замолкал, но не потому, что иссякало его красноречие, а потому, что разволновавшийся оппонент обычно давал ему сдачи. У этих книжников хрен поймешь, чем они там занимались на родительские средства, — может джиу-джинса какая или тыква-ндо, — но доставалось Василию частенько. Защищать свои убеждения до последней капли крови он, как и большинство его соратников, не умел, стараясь лишь произвести как можно больше шуму. После первого встречного удара он стремительно отлетал на свое место, откуда долго еще пыхтел что-то про телят и клюкву.
Место свое, однако, Василий просиживал не зря и штаны протирал не просто так. Во-первых, им страшно гордилась вся брянская губерния, потому что ни у кого больше такого не было — ближайшие соперники Василия, родом из так называемого красного пояса, и близко не достигали его уровня. В его присутствии даже небезызвестный сын юриста ощущал, что никакое книжное образование не заменит человеку суровой трудовой школы и долгого общения с навозом. Василия берегли для особых случаев. Когда проклятые Американские Штаты в очередной раз жадничали дать нам средств, рыжий показывал Василия неподатливым кредиторам и вкрадчиво говорил:
— Вот вам наш министр финансов не нравится. А этого вы не хотите? В последнее время он проявляет нешуточную активность и от новой должности отнюдь не откажется… А чем плох? Вы же сами просили: пусть будет практик!
Американцы жались, вздыхали и лезли за бумажниками.
Так эта идиллия и продолжалась целых два вечевых срока. На второй, правда, его попытались было переизбрать, но брянцы горой встали за своего кумира: ФЗУ, которое он окончил, и щедро удобренную грядку, в которой с наслаждением валялся во время отпуска для слияния с родной почвой, давно показывали за деньги, и область процветала. А на самых верхах, где решают нашу с вами участь и определяют состав Веча, никто давно не сомневался в том, что если и есть в парламенте полезный человек, то это Василий.
— Мы тут подумываем, не сделать ли его первым вице-премьером, — запускал дезу рыженький, мечтательно поглядывая куда-то в будущее.
— Никто и не отказывает вам в помощи, — с полуслова понимал его очередной вождь МВФ и выписывал чек.
Постепенно Василий возомнил, что и впрямь может влиять на государственную политику. Все, против чьего назначения он возражал, подозрительно быстро слетали со своих постов. Ему и в голову не приходило, что это обычная практика, нечто вроде сбрасывания балласта с опускающегося стратолета. Поэтому, когда Вечу представляли очередного премьера, Василий начал было обычную попевку:
— Да кого вы нам предлагаете? Он в гряде не родился, на ежа не садился, говном не вонял, телят не гонял, не рос в лесу, не молился колесу, не ходил по воду по любому поводу, не пыжился тугой, не тужился пыжом, совой не ухал, поту не нюхал…
В это время кандидат в премьеры не сильно, но точно ткнул Василия жилистым пальцем в начавшее уже заплывать жирком солнечное сплетение. Это прикосновение в один миг объяснило Василию все. Во-первых, он понял, что предполагаемый кандидат, попутно назначенный преемником, и родился, и трудился, и гонял, и вонял, и пыжился, и карячился, и ловил зимующих раков, и спрямлял закругления земли, а рогом может упираться так, как Василий не сумеет никогда. Будем откровенны: Василий испугался. По силе откровение приближалось к удару током.
Более того: он вдруг с необычайной ясностью увидел, что если он, Василий, попробует еще хоть раз сказать хоть слово против преемника, то давить клюкву, садиться на ежа и пахнуть рабочим потом придется именно ему, Василию, со всеми его фиговинками, и если он не хочет немедленно попасть под рубанок, фуганок, сеялку, веялку и молотилку, ему надо впредь как можно меньше вякать, а по большей части молчать, посапывая в портянки.
Он и посейчас молчит, только изредка покряхтывая, потому что уже исполнил свою историческую миссию. Ведь денег нам теперь и так дают. Только заведут иностранцы свою песню про то, что у нас в Чечне нехорошо и в Кремле продажно, преемник посмотрит на них исподлобья и скажет ровно и тихо:
— Ну?
И дают. Без звука дают. Знают, сволочи, что такое цивилизованная державность.
Относительно названия деревеньки Черная Мырда версий ходило множество. Сами черномырдинцы гордо рассказывали студентам, приезжавшим к ним по фольклор, что деревню их основал Абрам Ганнибал, Петров любимец, лично перепортивший до половины местных девок, отчего на среднерусских просторах изобильно завелись мулаты. Более прозаические версии соседей гласили, что в деревеньке искони топили по-черному, отчего и ходили вечно в копоти. Впрочем, и эта версия сомнительна, потому что топили в Черной Мырде не дровами, а газом, который сами же в достатке и производили вследствие одной таинственной местной особенности. Дело в том, что больше всего черномырдинцы боялись медведя.
Медведь был злым роком, проклятием деревушки. Старики рассказывали, что будто Абрам Петрович Ганнибал в озорливой юности похаживал с ружьишком по окрестным лесам и отстрелил встречному медведю лапу, после чего обиженный хозяин лесов стал являться в деревню на липовой ноге, приговаривая: «Скирлы, скирлы, скирлы». Так ли было, не так ли, а только ничего так не боялись юные мырдята, как медвежьего пришествия. Сны их тревожил грозный когтистый хищник, кричавший на них Бог весть с чего: «Кто пил из моей чашки? Кто сидел на моем стуле?» — и просыпались детишки в лучшем случае в слезах, а в худшем случае страшно сказать в чем.
От этого-то постоянного страха перед лесным гостем все жители Черной Мырды страдали болезнью, которая так и называлась — медвежьей — и заключалась в поразительной способности: в случае опасности каждый черномырдинец, от стара до мала, начинал обильно пускать газ, обладавший недюжинными горючими свойствами. Атак как особо успокаиваться жителям деревни не давали — то голод, то война, то сплошная коллективизация, — то и газ у них не переводился и топить завсегда было чем.
Была у черномырдинцев и еще одна особенность: слово «медведь» они произносить боялись, не желая накликать страшного пришельца. Постепенно этот принцип витиеватого обхода неприятных понятий распространился у них на все, и речь черномырдинца сделалась понятна только другому черномырдинцу, и то не сразу. Так, вместо обычного «Год выдался неурожайный, хлеба совсем мало» житель Черной Мырды замечал соседу: