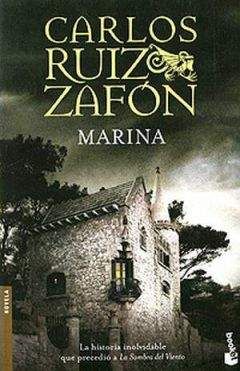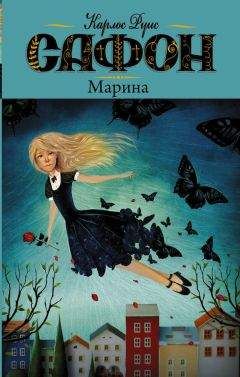Через неделю начались занятия: свинцово тяжелые дни, запотевшие стекла и капающие в полумраке батареи. Мои старые товарищи и их пустячные разговоры казались бесконечно далекими. Болтовня о подарках, праздниках и воспоминаниях, в которой я не мог и не хотел участвовать. Слова преподавателей проходили мимо меня. Я не понимал, как философия Юма и уравнения с производными помогут мне повернуть время вспять и изменить судьбу Михаила Кольвеника и Евы Ириновой. И мою собственную.
Воспоминания о Марине и о кошмаре, через который мы прошли с ней вместе, не давали мне думать, есть и поддерживать связный разговор. Она была единственным человеком, с которым я мог поделиться своей тоской. Я так в ней нуждался, что испытывал от этого физическую боль.
Я как будто сгорал изнутри, и ничто не могло принести мне облегчения. Я превратился в серую фигуру, сливавшуюся со стенами. А тени вообще не было видно. Дни опадали, словно мертвые листья. Я так ждал записки от Марины, какого-то знака, что она снова хотела меня видеть. Было бы достаточно любого предлога, чтобы я прибежал к ней и преодолел разделявшее нас расстояние, которое росло с каждым днем. Но ничего не приходило. Я убивал время, гуляя по местам, где нам довелось побывать с Мариной. Я сидел на скамейках на Плаза-Саррья и надеялся, что она пройдет мимо…
В конце зимы падре Сеги вызвал меня к себе в кабинет.
С мрачным лицом, сверля меня пронизывающим взглядом, он спросил, что со мной творилось.
— Не знаю, — ответил я.
— Возможно, если бы мы поговорили об этом, все бы встало на свои места, — предложил Сеги.
— Я так не думаю, — сказал я резко, о чем тут же пожалел.
— На Рождество ты провел неделю за пределами интерната. Могу я спросить где?
— Со своей семьей.
Преподаватель мрачно посмотрел на меня.
— Оскар, если ты собираешься и дальше меня обманывать, продолжать эту беседу нет смысла.
— Это правда, — сказал я. — Я встретил Рождество со своей семьей…
В феврале пришли солнечные дни.
Зимние лучи растопили покрывало изо льда и инея, накинутое на город. Это оказало на меня живительное воздействие, и однажды в субботу я пришел к дому Марины. На калитке решетки висела цепочка, а старый особняк, возвышавшийся над деревьями, еще никогда не казался таким одиноким. На миг мне показалось, что я выжил из ума. Неужели я все это выдумал? Обитателей этого призрачного дома, историю Кольвеника и дамы в черном, инспектора Флориана, Луиса Кларета, воскресших мертвецов — существ, которых жестокая судьба тут же истребила одного за другим… Неужели Марина и ее удивительный пляж мне только приснились?
«Мы помним только то, чего никогда не было…»
Той ночью я проснулся в холодном поту от собственного крика, не зная, где нахожусь. Мне снились туннели, где жил Кольвеник. Я никак не мог догнать Марину, а потом увидел ее, с ног до головы покрытую черными бабочками; но когда они взлетели, под ними оказалась лишь пустота. И холод. Никакого объяснения — только разрушительная тень, которая вселилась в Кольвеника. Ничего, кроме абсолютной темноты.
Когда в комнату, разбуженные моими криками, вошли Сеги и Шеф, я не сразу узнал их. Сеги проверял мой пульс, а Шеф смущенно наблюдал за нами, уверенный, что его друг окончательно свихнулся. Они не отходили от меня, пока я не заснул.
На следующий день, не видев Марину уже два месяца, я решил вернуться в особняк в Саррье. Я не успокоюсь, пока не получу объяснения.
Было туманное воскресенье. Голые стволы деревьев отбрасывали скелетоподобные тени. Колокола церкви звонили в такт моим шагам. Я остановился перед оградой дома и заметил следы шин на палой листве. Неужели Герман снова катался на стареньком «Такере»? Словно вор, я перелез через ограду и прошел в сад.
В полной тишине я созерцал громаду дома, который теперь казался совсем заброшенным и необитаемым. Посреди неухоженного двора я увидел велосипед Марины, валявшийся на земле, словно раненое животное. Цепь и руль успели сильно проржаветь. Глядя на эту картину, я подумал, что нахожусь перед древними руинами, в которых нет ничего, кроме старой мебели и призрачного эха.
— Марина? — позвал я.
Ветер подхватил мое слово. Я обошел дом в поисках черного входа через кухню.
Дверь была открыта. На столе не было ничего, кроме слоя пыли. Я прошел в комнаты. Тишина. Добрался до большого зала с картинами. Мать Марины смотрела на меня со всех стен, но для меня то были глаза Марины…
Тут я услышал за спиной чей-то всхлип.
В одном из кресел, неподвижный, словно статуя, скрючился Герман. Его неподвижность нарушали только слезы, которые текли по лицу. Я никогда не видел, чтобы человек его возраста так плакал. У меня кровь застыла в жилах. Бледный и осунувшийся, он отсутствующим взглядом смотрел на портреты. Он сильно постарел с нашей последней встречи. Костюм на нем был выходной, но грязный и мятый — бог знает, сколько дней он его не снимал. И сколько дней сидел так.
Я присел на колени перед креслом и взял Германа за руку.
— Герман…
Его рука была такой холодной, что я испугался. Вдруг старый художник обнял меня, дрожа, словно ребенок. У меня во рту пересохло. Я тоже обнял его и держал так, пока он плакал у меня на плече.
Тогда я испугался, что заключение его врачей было неутешительным, что надежда последних месяцев исчезла и Герман пытался излить свое горе. Я же задавался вопросом, где была Марина, почему не поддерживала отца в столь трудное время…
А потом старик поднял взгляд. Достаточно было посмотреть ему в глаза, чтобы все понять. Правда предстала передо мной с беспощадной отчетливостью, как суровая реальность после волшебного сна. Как холодный, отравленный кинжал, который ранил прямо в душу, без надежды на выздоровление.
— Где Марина? — спросил я почти шепотом.
Герману не удалось вымолвить ни слова. Да и не нужно было. Я понял по его глазам, кому на самом деле нужны были еженедельные визиты в больницу Сан-Пабло. Понял также, что доктор из Ла-Пас лечил не Германа. Понял и то, что радость и надежда, которыми лучился Герман по возвращении из Мадрида, совершенно не касались его собственного здоровья. Марина обманывала меня с самого начала.
— Болезнь матери… — тихо сказал Герман, — передалась моей Марине, дорогой Оскар…
Мои веки опустились, словно каменные плиты, и мир вокруг стал медленно рушиться. Герман снова обнял меня, и я расплакался как несчастный идиот в этом заброшенном зале старого особняка. Тем временем Барселону накрыла пелена дождя.
Из окон такси больница Сан-Пабло показалась мне городом, затерявшимся в тучах, с множеством заостренных башен и невообразимых куполов.
Герман переоделся в чистый костюм и теперь молча сидел рядом. У меня на коленях лежал сверток в самой яркой подарочной упаковке, которую можно было достать. Когда мы прибыли на место, лечивший Марину врач, некий Дамиан Рохас, оглядел меня сверху вниз и объяснил, как себя вести. Марину нельзя было утомлять. Нужно было показывать позитивный настрой и оптимизм. Это она нуждалась в моей поддержке, а не наоборот. Я пришел сюда не для того чтобы плакать и жалеть себя, а для того чтобы помочь Марине. Если эти правила были для меня невыполнимыми, возвращаться не стоило.
Дамиан Рохас был молодым врачом, едва закончившим обучение. Он разговаривал жестко и нетерпеливо, а со мной еще и не слишком вежливо. При других обстоятельствах я принял бы его за высокомерного кретина, но что-то в нем подсказывало, что такая манера поведения была лишь его способом выжить и как-то обособиться от своих пациентов.
Мы поднялись на четвертый этаж и пошли по бесконечно длинному коридору. Там пахло как в любой больнице — болезнью, дезинфекцией и освежителем воздуха. Как только я оказался в этом крыле здания и вдохнул этот смешанный запах, меня покинули остатки смелости. Герман вошел в палату первым. Он попросил меня подождать снаружи, чтобы заранее предупредить Марину о моем приходе. Я чувствовал, что Марина не захочет, чтобы я видел ее здесь.
— Пусть лучше я сначала поговорю с ней, Оскар…
Я ждал. Коридор представлял собой длинный проход с бесчисленными дверьми и отдаленным эхом голосов. Мимо молча проходили люди с искаженными от боли и горя лицами. Я то и дело повторял про себя наставления доктора Рохаса.
Они вроде бы помогали. Наконец, Герман показался из-за двери и кивнул мне. Я сглотнул и вошел в палату. Герман остался снаружи.
Палата была прямоугольным помещением, в котором солнце освещало лишь малую часть. За окнами на большое расстояние простиралась улица Гауди. Башни собора Саграда-Фамилиа делили небо пополам.
Внутри было четыре кровати, разделенных неровными занавесками, через которые было видно силуэты других посетителей, словно в китайском театре теней. Марина занимала последнюю кровать справа, рядом с окном.