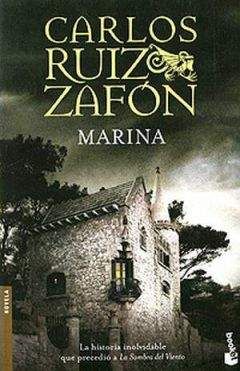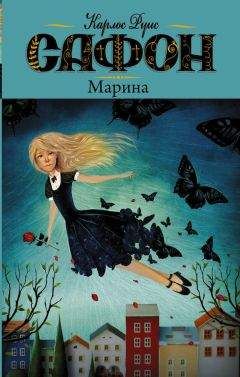Марина часто шутила на эту тему и говорила, что я смотрел на Лулу так, словно хотел превратиться в подвязку.
Они поженились в апреле. Когда спустя неделю доктор вернулся из медового месяца на Минорке, он был худым как жердь. Медсестры покатывались со смеху, глядя на него.
Таков был мой мир на протяжении нескольких месяцев. Занятия в интернате были потраченным впустую временем, окутанным туманом. Рохас говорил о состоянии Марины оптимистично, добавляя, что она молодая и сильная, а лечение приносило плоды.
Мы с Германом не знали, как его благодарить. Мы дарили ему сигары, галстуки, книги и даже ручку «Монблан». Он не хотел принимать подарки и говорил, что всего-навсего выполнял свою работу, но мы-то знали, что он проводил на рабочем месте больше времени, чем кто-либо из врачей.
К концу апреля Марина набрала немного веса и не была больше бледной как мел. Мы стали совершать прогулки по коридорам, а когда потеплело, даже выбирались на крытую галерею. Марина все еще писала в книге, которую я ей подарил, но мне не давала прочитать ни строчки.
— Как твоя книга? — спрашивал я.
— Глупый вопрос.
— Дураки задают глупые вопросы. А умные на них отвечают. Так как твоя книга?
Она так мне и не сказала. Я чувствовал, что рассказать на бумаге историю, которую мы с ней узнали, было для нее очень важно. Однажды, когда мы гуляли по галерее, она не на шутку меня испугала.
— Обещай мне, что, если со мной что-нибудь случится, ты допишешь книгу.
— Ты сама допишешь, — ответил я, — а потом дашь мне первому почитать.
Тем временем маленький деревянный собор постепенно рос. И хотя донья Кармен говорила, что он напоминал ей помойку в Сан-Адриан-дель-Бесос, очертания крыши уже отчетливо вырисовывались.
Мы с Германом уже планировали свозить Марину в ее любимое место — пляж между Тоссой и Сан-Фелиу-де-Гишольс, — как только ей можно будет покидать пределы больницы. Доктор Рохас со свойственной ему осторожностью назначил примерную дату поездки на середину мая.
В те недели я понял, что люди могут жить одой лишь надеждой.
Доктор Рохас рекомендовал Марине больше ходить и делать несложные упражнения в помещениях больницы.
— Ей не помешает немного прийти в форму, — сказал он.
После свадьбы Рохас превратился в знатока женщин, по крайней мере, так казалось ему. Однажды в субботу он отправил нас с Лулу купить Марине шелковый халат. Это был подарок, и платила за него Лулу.
Я пошел с ней в магазин белья на Рамбла-Каталунья, рядом с кинотеатром «Алексадра». Персонал знал ее. Я ходил за Лулу по всему магазину и смотрел, как она перебирала изделия всех возможных форм и цветов. Это было посложнее шахмат.
— Как думаешь, твоей невесте понравится? — спросила Лулу, облизнув губы, накрашенные ярко-красной помадой.
Я не сказал, что Марина не была моей невестой. Но я гордился тем, что кто-то мог так подумать. К тому же, прогулка по магазину нижнего белья с Лулу смутила меня настолько, что я как дурачок соглашался со всем, что она говорила. Когда я сказал об этом Герману, он с улыбкой ответил, что также находит супругу доктора опасной для здоровья. Впервые за несколько месяцев я видел, чтобы он улыбался.
В субботу утром, когда мы собирались в больницу, Герман попросил меня подняться к Марине в комнату и найти флакон ее любимых духов. В одном из ящиков комода я обнаружил сложенный пополам лист бумаги. Я раскрыл его и сразу узнал почерк Марины. Она писала обо мне. Листок пестрел зачеркиваниями и пропусками. Прочитать можно было только эти строчки:
Мой друг Оскар — из числа тех принцев без королевства, которые считают, что поцелуи превращают в жаб, а не освобождают от злых чар. Он все понимает наоборот, и потому так мне нравится. Люди, которые думают, что всегда все правильно понимают, редко правильно поступают.
Он смотрит на меня и думает, что я его не замечаю. Воображает, что я исчезну, если он ко мне притронется. А если нет — заставлю исчезнуть его. Он поставил меня на такой высокий пьедестал, что я не знаю, как оттуда слезть. Он думает, что мои губы — это врата рая, но не знает, что они отравлены. А я такая трусиха, что не говорю ничего, чтобы его не потерять. Притворяюсь, что не замечаю его и — да, скоро исчезну…
Мой друг Оскар — из числа тех принцев, которые почитают за благо держаться подальше от сказок и принцесс, которые там живут. Он не знает, что именно он — тот самый Прекрасный принц, который должен поцеловать спящую красавицу, чтобы она пробудилась ото сна, и именно поэтому не хочет понимать, что всякая сказка — ложь. Но не всякая ложь — это сказка. Принцы отнюдь не прекрасны, а спящие принцессы, хоть могут быть и красивы, никогда не пробуждаются от своего сна.
Оскар мой самый лучший друг и, если я когда-нибудь встречу Мерлина, обязательно поблагодарю его за то, что мы встретились.
Я взял листок и спустился к Герману. Он надел галстук для особых случаев и выглядел очень оживленно. Он улыбнулся мне, и я ответил тем же.
В тот день дорогу нам освещало солнце. Барселона надевала праздничные одежды, которые очаровывали туристов, и даже тучи не решались портить эту роскошь. Но вся эта красота не могла унять беспокойство, которое я испытывал из-за прочитанного письма. Был первый день мая 1980 года.
В то утро койка Марины оказалась пустой, без простыней.
В палате не было ни деревянного собора, ни других ее вещей. Когда я обернулся, Герман уже отправился на поиски доктора Рохаса. Я пошел следом. Мы нашли врача в его кабинете. Выглядел он так, будто вообще не спал.
— Ее состояние резко ухудшилось, — сказал он без предисловий.
Он рассказал, что прошлым вечером, меньше чем через два часа после нашего ухода, с Мариной случился приступ удушья, и ее сердце на тридцать четыре секунды остановилось. Ее удалось вернуть к жизни, и теперь она находится в отделении интенсивной терапии, без сознания. Ее состояние было стабильным, и Рохас полагал, что она выйдет из отделения меньше чем через сутки, но не хотел внушать нам лишних надежд.
На одной из полок я увидел вещи Марины — ее книгу, деревянный собор и шелковый халат, который она так и не надела.
— Могу я увидеть дочь? — спросил Герман.
Рохас лично сопроводил нас в отделение интенсивной терапии. Марина лежала в облаке трубок и металлических приборов, которые были страшнее любых изобретений Кольвеника.
Она лежала, словно кусок мяса, в котором еще теплилась жизнь только благодаря медным проводам.
В тот момент я увидел истинное лицо демона, терзавшего душу Кольвеника, и понял его безумие.
Я помню, что Герман заплакал, а меня неудержимая сила погнала прочь оттуда. Я бежал и бежал, задыхаясь, по шумным, переполненным улицам, где незнакомые люди не замечали моих мук. Я видел, что миру вокруг нет дела до участи Марины. В этой вселенной ее жизнь была лишь каплей воды в океане.
Мне пришло в голову лишь одно место, куда я мог пойти.
Старое здание на Лас-Рамблас все также стояло в своей темной нише. Открыв дверь, доктор Шелли не узнал меня. В квартире повсюду был мусор, а воздух пропах старостью и болезнью. Шелли посмотрел на меня пустыми пьяными глазами. Мы прошли в его кабинет, где я усадил его возле окна. Об отсутствии Марии тут кричало все. Вся спесь и крутой нрав доктора Шелли исчезли бесследно. Остался лишь несчастный старик, одинокий и отчаявшийся.
— Она ушла, — причитал он, — она ушла…
Я вежливо подождал, пока он успокоится. Наконец, он поднял взгляд и узнал меня. Он спросил, чего мне было надо, и я ответил. Он внимательно посмотрел на меня.
— Ни одного пузырька сыворотки Михаила не осталось. Все было уничтожено. Я не могу дать тебе то, чего ты просишь. Но если бы мог, это было бы ошибкой. Той же самой, которую совершил Михаил…
Его слова повисли в тишине.
Мы всегда слышим то, что хотим. А этого я слышать не желал. Шелли твердо выдержал мой взгляд. Мне показалось, что он прекрасно понимал мое отчаяние, и воспоминания, которые у него всплывали при взгляде на меня, пугали его. Я с удивлением обнаружил, что был готов пойти дорогой Кольвеника, если бы у меня была возможность. Я его больше никогда не осуждал.
— Пространство людей — это жизнь, — сказал доктор. — Смерть нам не принадлежит.
Я почувствовал ужасную усталость. Хотелось просто покориться неизбежному.
Я повернулся к выходу и сделал несколько шагов. Тут Шелли окликнул меня.
— Ты же был там, да? — спросил он меня.
Я кивнул.
— Мария покоится с миром, доктор.
В его глазах блеснули слезы. Он протянул мне руку, и я пожал ее.
— Спасибо.
Больше я его не видел.
К концу той недели Марина пришла в себя и была выписана из интенсивной терапии. Ее перевели в палату на втором этаже, окна которой выходили на район Орта. Она была там одна. Марина больше не писала в своей книге и едва могла нагнуться, чтобы взглянуть на свой почти законченный собор на подоконнике. Рохас попросил разрешения на последние анализы. Герман дал согласие. Он все еще надеялся. Позже в своем кабинете Рохас прерывающимся голосом объявил нам результаты. После нескольких месяцев борьбы он был вынужден признать очевидное. Герман поддержал его, положив руки ему на плечи.