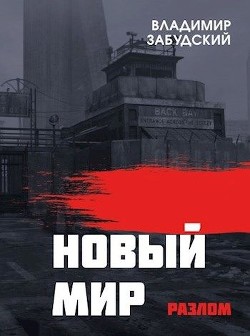За комментариями по поводу случившегося издание «Crooked Mirrors» обратилось к австралийскому политологу, известному специалисту по балканским проблемам, доктору Джошуа Гудману.
«То, что мы видим — это давно назревавшее столкновение противоборствующих в ЮНР элит», — объяснил доктор Гудман. — «Во «внутреннем круге» верхушки ЮНР Кунгурцев имел репутацию «адвоката Запада». Он осторожно выступал за переход к более либеральной политике и выход «югославов» из международной изоляции. Но такая позиция не пользовалась спросом у населения, напичканного милитаристской пропагандой. Единственным шансом «прозападной партии» был путч. Но, судя по тому, что мы видим, «консервативная партия» оказалась на шаг впереди. Не удивлюсь, если за этим арестом проследуют другие. И, весьма вероятно, путчистов и их пособников ждет смертная казнь — в этом отношении Ильин много раз прежде проявлял свою жесткость».
Относительно «руки Альянса» в этой истории политолог не захотел быть категоричным.
«Если следовать принципу “Cui bono?” (от лат. — «Кому выгодно?» — прим. ред.), то, конечно же, Альянс должен был ратовать за то, чтобы к власти в ЮНР пришел Кунгурцев. Это был бы прекрасный для Альянса выход из сложившегося кризиса, причем выход невоенный. С этой точки зрения был смысл поддержать переворот. Но ставки в такой игре были бы очень высоки. Неудача означает кровопролитную войну. Я не берусь утверждать, что Лукас Пирелли был готов к настолько решительным и неосмотрительным действиям как отправка в Бендеры работников спецслужб, которые бы поддержали путч. Пирелли — осторожный политик. С другой стороны, он окружен рядом советчиков, в духе которых как раз такие «ковбойские» замашки».
По мнению доктора, следует подождать результатов расследования и раскрытия личностей тех самых «иностранных шпионов», которые задержаны в Бендерах, прежде чем о чем-то говорить всерьез. И можно лишь гадать о масштабах политических последствий, если гипотеза о «руке Альянса» подтвердится.
«Это, конечно, будет иметь эффект разорвавшейся бомбы. Я бы сказал — зашкаливающая эскалация конфликта. Даже не знаю, остались бы хоть какие-то шансы избежать войны», — не скрывая своей обеспокоенности, прокомментировал этот сценарий доктор Гудман. — «Всем известно, что ЦЕА не един — это хитросплетение сотен переплетенных между собой интересов. Пирелли не имеет такой власти, чтобы вовлекать весь Альянс в масштабную военно-политическую авантюру. Если окажется, что он это сделал, — предполагаю, что многие члены ЦЕА предпочтут дистанцироваться от него. Особенно это касается «зеленых зон» за пределами Балкан, в Западной Европе. Им выгоднее углубить свое сотрудничество с Содружеством наций и превратиться в его европейские форпосты, центры бизнеса и торговли, нежели принимать на себя незавидную роль тылов и военно-промышленных кузниц в затяжной войне с ЮНР, в которой они не имеют собственного большого интереса…».
Не думаю, что я прочитал и понял хотя бы еще одно слово после словосочетания «смертная казнь». Политические причины и последствия того, что произошло, были мне не интересны. Мой мир был разрушен. Мне оставалось лишь бессильно наблюдать, как он погибает в агонии.
С 19-ого марта все занятия в школах отменили.
Рано или поздно это должно было произойти. В последние дни в нашем классе и так уже была посещаемость меньше 30 %. Я все еще был старостой, поэтому после того, как с утра мне позвонила Кристина Радославовна, я разметил объявление в нашей группе в соцсети и обзвонил всех одноклассников, кто остался на связи. Когда я сделал последний звонок, часы едва еще только перескочили отметку 08:00. На улице в это время еще едва светало. Зайдя на кухню и включив чайник, я выглянул из-за шторки и увидел, как единичные прохожие с большими сумками спешно семенят по Центральной улице в сторону Южных ворот. Кое-кто из них был с детьми. Как раз в этот момент мне позвонила мама.
— Ты слышал, что занятия отменили? — спросила она тихим исстрадавшимся голосом, который стал для нее обычным за последние два месяца.
— Да. Уже весь класс обзвонил.
— Мы уезжаем сегодня вечером, Димитрис. В восемь. Я хочу, чтобы ты был готов в полвосьмого.
— Конечно, мам.
— Мне нужно тут кое-что сделать, но как только освобожусь — найму машину и поеду к тебе.
Я не хотел ничего ей отвечать, не хотел расспрашивать и тем более спорить. Она готовила наш отъезд в Олтеницу уже две недели, сняла комнату у одного из своих коллег по работе и даже перевезла туда часть наших вещей. Я знаю, что эти вещи так и стоят сейчас в этой чужой комнате, не распакованные, в сумках и коробках, так как неизвестно, долго ли им суждено будет пробыть в Олтенице и куда они направятся дальше.
Я помню, как мама долго стояла перед нашими семейными фотографиями в рамочках — такая и растерянная и несчастная. Она не знала, что делать — забирать их с собой или оставлять. Ведь эти фото — одна из тех вещей, которые делают помещение нашим домом, вдыхают жизнь в безразличные кирпичи и штукатурку. Забрать их, оставить на стене пустой безобразный крючок — значит окончательно признать свое поражение, конец эпохи. Смириться, что все больше никогда не будет как прежде.
Мама оставила их на месте. Наблюдая за ней исподтишка, я почувствовал, как многое значит это ее решение. Она не готова была перешагнуть в другую эпоху. Не готова была распрощаться с нашим домом. Распрощаться с папой. Она постоянно говорила «мы уедем», но она имела в виду «ты», а вовсе не «мы». Она не представляла себя в каком-то другом месте, в другой жизни. Я понимал это глубоко в душе, но отказывался признавать. Ведь это признание потребовало бы от меня каких-то действий, слов, убеждений, решений. Я был единственным оставшимся в этом доме мужчиной. Но я не знал, что мне делать. И даже не чувствовал себя мужчиной.
После разговора с мамой я закинул свой коммуникатор прочь с глаз долой. Я совершенно не хотел ни с кем говорить, даже с Дженни. Она пыталась сочувствовать мне, но она совершенно не понимала, что я чувствую. Ей тяжело было мириться с новым мной — мрачным, раздражительным. Она не признавалась в этом, но скучала по жизнерадостному и уверенному в себя парню, полному наполеоновских планов и честолюбивых амбиций. А я не был уверен, что он когда-нибудь вернется.
Я не знал, как провести день. Несколько часов я проблуждал по информационным помойкам, выискивая крохи информации об отце, намеки, сплетни, слухи. Когда почувствовал, что начинаю тихо сходить с ума — отправился в спортзал. Надо было выпустить пар, и я знал лишь один способ.
В зале сегодня не было людно. Один из немногих занимающихся поздоровался со мной, и я ответил невразумительным кивком. Я накинулся на старую тяжелую боксерскую грушу с таким остервенением, будто именно этот кожаный мешок, набитый песком, повинен во всех моих злоключениях. Дышать становилось сложнее, на теле выступал пот, в руках ощущалась усталость — но облегчения не наступало. Ничего — нужно время. Я делал короткие передышки и набрасывался на грушу снова, снова и снова. Я не тренировал технику, как следовало бы — я вкладывал в удары всю свою силу, сцепив зубы и едва не крича от ярости. Я не был в этот момент спортсменом. Просто человек, пытающийся забыться.
— Видала технику и получше, Войцеховский, — услышал я позади себя голос во время одной из передышек. — Но сил у тебя хоть отбавляй.
Это была Алла Викторовна — как всегда с жестким бобриком волос и пропитанной потом серой майке, обтягивающей жилистое мускулистое тело. В последнее время ее редко можно было здесь увидеть — она была занята круглые сутки, нещадно натаскивая новобранцев в качестве одного из командиров «народной дружины». За ее спиной на орбитреке занималась ее сожительница — красивая худенькая женщина, чьи каштановые волосы были аккуратно собраны в «конский хвост». Хрупкая женственность этой особы обманчива — это Карина Майданова, бессменный многоопытный пилот нашего вертолета. Двадцать лет назад она вылетела на помощь беженцам из ПСП № 452, пережила падение и перелом обеих ног. Алла была одной из тех, кто ее выходил — так они и познакомились.