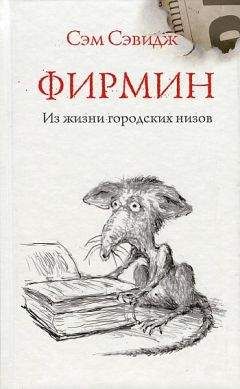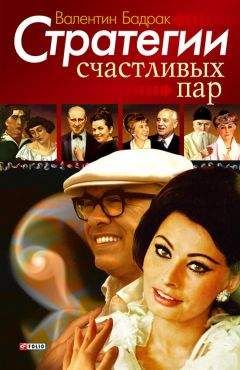Сперва Джерри называл меня Шеф, и не могу сказать, чтобы мне это очень льстило, потом опробовал Густава, Бена и наконец остановился на Эрни. «Как важно быть серьезным'».[62] Эрнест Хемингуэй. Эрни так Эрни. Он давал мне арахисового масла и молока сколько влезет, угощал кусочками тоста за завтраком, потчевал всем, что сам ел, и думал, что мне понравится, рисом, например, который варил, кукурузой, которую выковыривал из банки. Кстати, мы с ним пришли к выводу, что крысы не любят рассола.
Он надолго пропадал — иногда днем, иногда и ночью, иногда в публичной библиотеке на Копли-сквер, иногда в баре «Разлив» на углу, но по большей части шастал неведомо где. И вечно на выход надевал синий костюм. У него было их два, совершенно одинаковых. Он их сам стирал в раковине, сушил на пожарной лестнице и на батарее, но гладить не гладил. И всегда он был при галстуке, но его не плотно завязывал. Не завязывал, не развязывал, просто накинет через голову — и болтается у него на шее удавкой. Вечно видик — как после запоя, и, если подытожить описание его наружности, например, одним словом, я бы так сказал, что он был помятый.
Когда я уже был в состоянии выбраться из Отеля и стал ковылять по комнате, Джерри не возражал. Потрясающий квартирный хозяин, он вообще разрешал мне все — даже Стэнли потрошить, в пружинах рыться, чем я с удовольствием и занимался, — но никогда я не злоупотреблял его доверием, не совал нос в его личные вещи, когда его нет. Когда, значит, встал на ноги, я использовал его долгие отлучки и обнюхал каждый сантиметрик в комнате, и начал, естественно с книжных полок. Я еще не бывал ни у кого в доме, так что не вполне себе представлял, сколько книг приблизительно у людей бывает. После «Книг Пемброка», естественно, почти любое количество показалось бы жалким. У Джерри, по-моему, было их сотни две. Я с удовольствием обнаружил «Портрет художника в юности» и «Улисса», но Великой книги, увы, не было — увы, потому что мне так и не довелось восстановить те страницы, которые Фло изодрала, а я так беспечно съел. Кроме книг, на нижней полке длинным строем стояли тетрадки, в которых Джерри писал. При всем своем любопытстве я счел, что лезть туда неприлично, хотя соблазн был почти непереносим. Ну а книжечками я, конечно, попользовался — попадалось тут и кое-что для меня новое. Начал я с нижней полки, слева, пробирался постепенно наверх, ну, и за эти делом он меня очень скоро застукал.
Я как раз открыл для себя Терри Саутерна и распахнул его роман «Кэнди»[63] перед собой на полу. Эти бумажные, плохо сброшюрованные книжонки вечно норовят захлопнуться, как наручники, и, естественно, я придерживал страницы обеими передними лапами. «Кэнди» — весьма духоподъемная история. Я дошел до того места, где Кэнди отдается карлику, и так увлекся — хочешь не хочешь, а известное сходство с моим собственным положением напрашивалось, — что не слышал, как Джерри поднимается по ступеням, пока не стало слишком поздно. Дверь была, очевидно, не заперта, и вот — вдруг вижу: стоит на пороге, тяжко дыша, сумка с кульками в одной руке, ключ все еще в другой. Ох как он меня напугал. Сам, между прочим, тоже дико растерялся, сперва буквально остолбенел, уставя в меня свой этот ключ, как пистолет. Поскольку я был, так сказать, накрыт с поличным, деваться мне было некуда, у меня не было выбора. Ну и я в буквальном смысле слова перевернул страницу — я продолжал читать. Я думал, он рассердится, что его книги стягивают с полок, шмякают на пол, а он, он, наоборот, вдруг ужасно развеселился. Оправясь от потрясения, он громко расхохотался — с ним это нечасто случалось, — горстями рассыпая по крыше гравий. После этого случая я без зазрения совести снимал с полки книжку, как только скучно станет, открывал прямо на полу и читал, не стесняясь, прямо при нем. По-моему, он так и не понял, что я вправду читаю. Так и остался, по-моему, в убеждении, что просто я делаю вид.
Хоть, глядя на него, вы бы этого ни за что не сказали, Джерри был очень даже практичный и экономный человек, когда трезв. Обожал выудить из кучи хлама увечную, хилую, жалобно пищавшую вещь и довести до ума — тостер, проигрыватель, всякое такое. Иной раз получалось, иной раз нет. Не получится — он эту штуку выкинет, а получится — снова втиснет в кладовую. По полдня, бывало, корпит над каким-нибудь приспособлением, расчленив его на столе, орудуя плоскогубцами и отвертками, разматывая рулоны черной ленты, и все время бубнит про себя: «Тэк-с, во-от мы эту проволочку сюда, тут у нас термостат, а тут защелка пружинная, хорошо-хорошо-с, и как это тебя угораздило треснуться?» — а потом все собирает заново. Видел плохо, буквально носом водил по столу, из-за этой своей близорукости, из-за толстых неповоротливых пальцев то и дело сыпал на пол кое-какие детали. Весело было смотреть, как он ползает на четвереньках. Вылитый медведь. Я, между прочим, наверно, мог бы кое-что для него найти, но никогда не искал. А еще весело было смотреть, как он горбатится над работой, косым глазом стреляя куда-то в сторону. Как ребенок, которого застукали на запретной шалости. Но если уж воскресит обреченную, умирающую вещь, сам не свой от счастья, бывало, скачет по комнате и крякает, хмыкает про себя. «Усовершенствовать мир. Старания механика». В такие минуты хотелось рядом с ним приладить слово «сияние». Счастье так и прыскало из него, затопляло комнату, я жадно его глотал. Подправив пять-шесть таких вещиц, чтоб стали как новенькие, он их сваливал в красную коляску и уволакивал куда-то. Потом уж мне стало известно, что он раздавал их на улице кому ни попадя.
Как-то, через месяц примерно после того, как я у него поселился, Джерри принес домой игрушечный рояль, где-то среди мусора откопал. Беленький, о трех маленьких ножках, и к нему еще, как положено, стульчик. Во всех отношениях абсолютно настоящий рояль, только клавиш поменьше, а какие есть, неисправны. Ни звука не издавали вообще, как он по ним ни колошматил, кроме слабенького, совсем немузыкального — треньк. Выколотив из рояля два-три таких тренька, он уселся возле Верблюда и разъял инструмент на части. Возился с ним, уговаривал его часами, и в конце концов все клавиши у него зазвучали. Потом еще часа два он просидел в кресле, держа рояль на коленях, наигрывая двумя пальцами «У любви, как у пташки, крылья», «Сатана там правит бал». А уж потом поставил на пол, для моего пользования. Очень этот рояль мне пришелся по душе, и Джерри отнесся с пониманием, не стал его никому отдавать. Играл я в основном Гершвина и Кола Портера,[64] и был при этом вылитый Фред Астер, и пел тоже в его манере, точь-в-точь. Ну, что значит точь-в-точь, я понимаю, конечно, это верно только с некоторым допущением, только в одной, отчасти условной перспективе, и Джерри, например, слышал исключительно тонкий крысиный писк. Ему, правда, все равно нравилось. Когда я в первый раз сыграл для него и спел, он так хохотал, что даже слезы потекли по щекам. Конечно, я предпочел бы несколько иную реакцию, но тут уж ничего не попишешь.