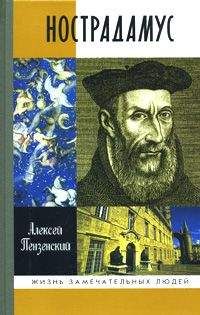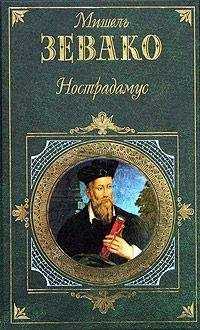— Однако вы до сих пор никогда не церемонились.
— Если вы имеете в виду, что я позволял солдатам поживиться после того, как они рисковали своей жизнью и должны были удовлетворить свою мужскую плоть, не связанные обетом священнослужителей…
— Нет-нет, что-то о каких-то пленных.
— Да, я приказал расстрелять, загнав в море, две тысячи пленных, взятых в крепости на границе с Сирией, хотя обещал сохранить им жизнь. Но мне нечем было их поить и кормить при переходе через пустыню. И я не хотел устилать знойные пески трупами своих солдат. А что предлагаете мне вы, Баррас? Расстрелять из пушек безоружных избранников народа? Нет!
— Но как же Совет пятисот и совет старейшин? — спросила Жозефина.
— Пятьсот болтунов, пятьсот мнений! Разве можно выиграть хоть одно сражение, если решения на поле боя будут приниматься голосованием? Для больной страны нужна единая воля, которая поднимет ее со смертного одра.
— Но из пятисот мнений едва ли найдется столько, чтобы поддержать вашу точку зрения, генерал.
— Передайте в Париж моему брату Люсьену, который председательствует в Совете пятисот, что следующее его заседание состоится в загородном дворце Сен-Клу. Я сам там выступлю перед ними и соглашусь стать первым консулом Франции, взяв себе в подмогу Сайеса и Роже-Дюко.
— А как же я? Вы гарантировали мне из Италии, что я не останусь в тени.
— Когда солнце в зените, тени исчезают.
— Ты хочешь выступить перед депутатами, но там двести якобинцев, бравших Бастилию, казнивших короля и королеву. Они растерзают тебя, — взволновалась Жозефина.
— Когда требовалось, я шел через мост под шквальным огнем пуль.
Но тревога Жозефины не была напрасной. Гренадеры едва отбили своего Бонапарта, выступившего перед Советом пяти сот, от разъяренных депутатов, требовавших объявить его вне закона. Однако он не применил своей излюбленной артиллерии, заменив залпы пушек грохотом приближающихся барабанов, чего оказалось достаточно после громовой команды Мюрата, этого красавца с орлиным профилем и локонами до плеч, своим гренадерам "вышвырнуть всю эту публику вон". Перепуганная «публика» открывала и вышибала окна, выскакивая под проливной дождь во двор, занятый солдатами. Никто не тронул депутатов, но их, промокших и перепуганных, силой вернули обратно для принятия решения о передаче всей власти трем консулам во главе с Наполеоном Бонапартом.
И он сразу повел себя в роли первого консула, как полководец на поле сражения. Первым делом он уничтожил преступников, расстреливая их на месте. Разбойные шайки не выдерживали, и оставшиеся в живых грабители разбежались. Потом он взялся за внутреннее устройство, за финансы, за порядок, приняв предложение услуг бывших министров иностранных дел Талейрана и полиции Фуше, однако установив за ними тайную слежку, зная им цену и не слишком доверяя; но те распознали соглядатаев, не давая новому властелину повода для сомнений и усердно служа ему, правда, не забывая и о себе, нажив при нем изрядные состояния.
А весной 1800 года властелин вновь превратился в полководца и отправился отбирать у Австрии завоеванную им прежде Италию. Поход его был легендарным. Подобно Ганнибалу две тысячи лет назад, он со своей армией перешел через Сен-Бернарский перевал в Альпах, оставляя в пропастях не боевых слонов древности, а современные пушки и зарядные ящики. И все-таки вышел в тыл австрийским войскам на итальянских равнинах. Там, у деревушки Моренго, дал бой отборной австрийской армии, превосходящей его силы числом, но не его гениальным умением.
Австрийцы, поначалу вообразив себя победителями, были разбиты. Итальянские герцогства и королевства возвращены Франции вместе с новыми золотыми обозами.
Встреча победителя превосходила все предыдущие. Жозефина видела с балкона дворца подъезжающую открытую коляску, остановленную толпой, распрягшей лошадей и на плечах перенесшей ее с возвышающимся над тысячами голов победителем.
И он плыл над людьми, этот «надчеловек», как называл его сын Жозефины, обожавший своего отчима.
И закономерным было, что после присоединения к Франции европейских стран даже без военных походов первого консула французы сочли нужным признать вслед за римлянами последнюю часть имени «Кай Юлий Цезарь», означающую «ИМПЕРАТОР», и предложить Наполеону французский императорский престол. Он потребовал, чтобы венчал на царствование его (под угрозой направленных на Ватикан пушек) папа Пий VII (еще не так давно пронырливый итальянский граф), которого Наполеон встретил лишь неподалеку от своей загородной резиденции, выехав в коляске, куда папа вынужден был к нему пересесть. Будущий помазанник даже не вы шел из нее, считая папу просто шарлатаном. И во время коронации он не дал папе возложить ему корону на голову, а сам надел ее, как обычную треуголку, а потом, как с волнением вспоминала Жозефина, возложил корону поменьше на голову ей, преклонившей перед ним колена.
Все реже новая императрица уединялась в былой ее особняк с супругом, которого она по-настоящему полюбила, а в последнее время она стала замечать нечто терзающее его, не даром он так часто теперь справлялся о ее здоровье и самочувствии. К несчастью, Жозефина не могла пожаловаться на столь желанное ему недомогание.
Он по-прежнему отправлялся в походы, непостижимо громя все европейские государства, стерев с лица земли Пруссию, подчинив себе все немецкие государства, разгромив австрийцев вместе с их храбрыми союзниками русскими под Аустерлицем и в других местах.
Наполеон, которому, по его словам, было «наплевать на миллионы жизней», доказал это, равнодушно перешагнув через два миллиона убитых и погибших в затеянных им войнах. И только Англия, защищенная морями и могучим флотом, противостояла ему. Остальные же европейские монархи заискивали, преклонялись, даже лизали ему руки, выпрашивая подачки в виде провинций, которые он распределял между ними по своему усмотрению. Взамен он требовал всеобщей удушающей Англию торговой блокады.
Неожиданным, как всегда, был его союз вместо вражды с Россией. Мир на плоту Немана, заискивание австрийского двора, тайно сватавшего через Талейрана дочь австрийского императора Марию-Луизу, о чем проведала Жозефина.
Новая императорская династия утверждалась во Франции, но… не появлялось наследника.
И сердце Жозефины сжималось от грозных предчувствий. Эти предчувствия не были связаны с ужесточением диктаторского режима в провозглашенной империи, где не поощрялись какие-либо умствования или бессмысленные философствования того же, например, Канта. Наполеон презрительно относил их к той же категории нелепых суждений, как и шаманство католической церкви во главе с папой Пием VII.