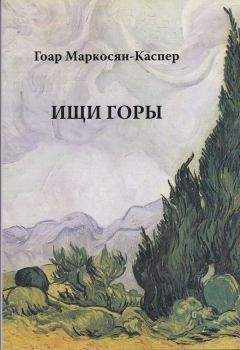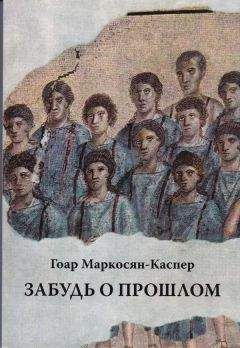— Кстати, — сказал Мит, глядя на Поэта, жадно жующего невкусные бутерброды из толстого куска хлеба и тонкого слоя какой-то овощной смеси, — ты свободен, любимец публики. Тебя там не было.
— В смысле?
— Тебя никто не назвал. Ни один человек.
— Это точно? — спросил Дан.
— Абсолютно.
— Жаль, — Поэт вздохнул.
— Почему жаль? Гуляй. Пой.
— Мои поступки не оставляют следа. Я строю на песке.
— Не на песке, а на бумаге. А бумага прочнее камня. Маран не подавал голоса?
— Нет. Может, ты знаешь, где он?
— Может.
Дан ожидал продолжения, но Мит молчал, и ему пришлось спросить:
— Где же?
Мит ответил не сразу, после долгой паузы.
— Он поехал туда. В Вагру.
— Зачем?!
— Надо было.
— Надо! Знаю, что надо. Но именно ему?
— Ну может, не именно ему, но…
— Именно ему как раз нельзя было туда ехать! Мы же с ним договорились. Почему ты не удержал его?
— Интересно, как я мог его удержать?
— Очень просто! Не пустил бы, и все.
— О Создатель! Не пустить Марана! Ты же не вчера с ним познакомился! Неужели ты до сих пор не понял, что когда он принял решение, он его выполняет?
— Надо было убедить, отговорить… ну я не знаю…
— То-то, что не знаешь.
— А почему ты с ним не поехал?
— Потому что он поручил мне другое дело. Надо было раздать ваше предохранительное средство тем, кто уже выбрался из опасной зоны. Кого вывезли. Это ведь тоже люди. Несколько тысяч человек.
— А как ты их нашел?
Мит поднял на Дана удивленные глаза.
— Значит, Марану удалось убедить Тонаку?
Вопрос был чисто риторическим, во всяком случае, Мит, по всей видимости, оценил его именно так, почему и промолчал. Дан открыл рот, чтобы задать следующий, но Поэт опередил его.
— Я что-то не понял, — сказал он, настороженно глядя на Дана. — Это тот самый препарат, который не подействовал? Там, на Перицене.
— Тот, но не совсем.
— В смысле?
— Он переделан в соответствии с особенностями ваших организмов.
— Специально для Марана? — спросил Поэт с недоверием.
— Почему только Марана? — удивился Дан. — Для всех.
— Ты хочешь сказать, что вы создали новый препарат для нас, жителей Торены?
— Конечно. Мы же знали о работах над глубинным оружием и, на всякий случай, подготовились. Что тебя, собственно, смущает?
Поэт густо покраснел.
— По правде говоря, себя смущаю я сам, — пробормотал он. — Боюсь, что я какой-то выродок, Дан. Я, наверно, прогнил насквозь. Ну неужели в мою тупую башку так трудно втемяшить, что люди могут делать добро другим людям, народы другим народам просто так, не ища никакой выгоды?
— Интересно, за какой выгодой ты помчался в визор-центр? И не ты один.
— Ну… В способность отдельных людей к подобным вещам я еще могу поверить. Но в целом, в массе… Нет, не верю. То есть не верил. Почему?
— Время такое, — сказал Мит тихо.
— Время?.. Возможно. Конечно, когда всю жизнь трясешься от страха за себя и своих близких… не какого-нибудь, а совершенно животного страха потерять жизнь, свободу, кусок хлеба… тут уже не до абстрактных чувств…
— Что ты называешь абстрактными чувствами? — спросил Дан. — Доброту? Милосердие? Гуманность?
— Да, Дан. Представь себе. Доброта в Бакнии стала абстракцией. Фантазией. Сказкой. Милосердие… В стране, полной убийц и доносчиков?
— Ты преувеличиваешь!
Поэт с сомнением покачал головой.
— Кстати, насчет визор-центра. Мы отнюдь не были столь бескорыстны, как могло показаться. Ведь речь шла о наших соотечественниках. Национальное чувство у бакнов не абстракция, в отличие от доброты. Учти это на будущее.
— Учту, — хотел сказать Дан, но услышал сигнал, а потом приглушенный голос Марана и приложил палец к губам.
Бронированный мобиль Наружной Охраны несся с бешеной скоростью. Ничто не мешало этому движению, дороги одной из самых густонаселенных провинций Бакнии были пусты… Собственно, ничего экстраординарного в этом не было, обычное состояние, но пустовали поля и сады — сейчас, в разгар весеннего сбора плодов и первого сева, в середине дня… Правда, небо затянули фиолетово-синие тучи, назревал дождь, но в Бакнии с подобными мелочами не считались, работали в любую погоду. Однако же… За полчаса езды тишина была нарушена лишь однажды, высоко над дорогой пронесся летательный аппарат — примитивная, безбожно тарахтящая машина Наружной Охраны, гражданской авиации в Бакнии не существовало, вообще на Торене самолетостроение развивалось как-то странно, создав скверную модель геликоптера, оно сделало как бы паузу и теперь непонятным образом подбиралось сразу к реактивному движению… Аппарат летел медленно, дергаясь и сотрясаясь, и ни одна голова не высунулась из окна, никто не помахал рукой диковине. Ни дымка над крышами, ни света, ни шевеления, во дворах никого, в дома они уже не заходили, знали, что если зайдут, увидят одно: трупы. В гематомах, с кожей в сплошных изъязвлениях, с выпавшими волосами, с засохшей у носа, у рта черной кровью. На карте, лежавшей на коленях Дана, эта зона была темно-розовой, практически красной, для тех, кто в ней оказался, спасения не было и быть не могло. Единственные уцелевшие… пока уцелевшие — то ли их временно, до тех пор, пока они не стали щипать траву, защитил густой мех, то ли они были менее восприимчивы к радиации… попадавшиеся повсеместно ручные зверьки ползали, обессилевшие, полуживые, у тел мертвых хозяев. Дану эти забавные зверюшки с ярко-рыжим мехом и ласковым именем «нанок» напоминали земные игрушки. Но и они были обречены, все они были обречены…
И все-таки, как ни мучительно было это зрелище, полчаса назад они прошли через испытание более страшное. Дан бросил сочувственный взгляд на врача станции, сгорбившегося на заднем сидении — глаза Педро за прозрачным забралом защитного костюма напоминали глаза загнанной лани, а смуглое лицо казалось зеленовато-бледным… На периферии пятна они нашли живых людей, живых, но… Как страшный сон — карандашик диагностического дозиметра касается ничем не выделяющейся точки кожи, и на боковой грани карандашика вспыхивает цифра — приговор… Дан отлично представлял себе, каково Педро. На Земле безнадежных больных откачивали до упора, до последнего вздоха — тут их приходилось бросать на произвол судьбы, если быть точным, оставлять умирать. Сознавать свое бессилие невыносимо, а врачу, наверно, особенно. За последний век земляне отвыкли от бессилия, и это их деморализует гораздо больше допустимого… хотя земное могущество порой иллюзорно — в той же, например, медицине. Будь то на Земле, всех этих полуживых людей стали бы яростно откачивать в Радиационном центре — и что? Продлили б агонию, и только. А есть ли в этом смысл? Есть ли смысл? Дан знал, что вопрос этот существует давно, возможно, столь же давно, сколь сама медицина. По этому поводу не раз вспыхивали и затухали споры, но самая ожесточенная дискуссия развернулась в первой трети прошлого века, в разгаре пандемии СПИДа… вернее, не в разгаре, а когда пандемия пошла на спад, в разгаре было просто не до споров, в какой-то степени она застала мир врасплох, произошел качественный скачок, десятки, а может, сотни миллионов носителей вируса вдруг превратились в больных… Толчком к началу дискуссии послужила вынужденно сложившаяся практика — на пике пандемии, исчерпавшей все медицинские ресурсы и резервы, поневоле пришлось прибегнуть к элементам военно-медицинской доктрины, не отличавшимся гуманностью, но целесообразным, а именно, помощь оказывалась, в первую очередь, тем, кого еще можно было спасти, вывести в ремиссию, кому можно было растянуть болезнь, продлить жизнь, безнадежные и умирающие оставлялись «на потом», и для большинства это «потом» так и не наступало… Прагматизм. Позднее этот прагматизм стали называть дегуманизацией и яростно осуждать, но существовала и иная точка зрения, сводившаяся к тому же — есть ли смысл? Смысл не для врача, а для больного? Дан смотрел на дорогу и думал, что будь он на месте тех, получивших смертельную дозу людей, он предпочел бы, чтоб ему дали умереть… Да, но раз и навсегда решив это для себя, он никак не мог примириться с тем, что вынужден позволить умирать другим. Парадокс?..