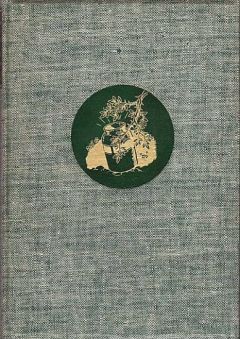Когда он отвел глаза, то улыбнулся ей, и словно солнце внезапно осветило темноту, прогоняя всю печаль и мрак. Затем он ушел, пританцовывая. На ходу он поднес тонкую двойную флейту к губам и издал несколько бессвязных нот.
На следующий день он появился перед нею, как раньше, уже вблизи поглядев ей в глаза. Он поиграл совсем недолго, но так, как надо, а потом пошел к ней. Когда он вышел из папоротников, девушка вдруг в испуге закрыла глаза ладонями. В нем появилось нечто новое, страшное. Верхняя половина его тела была прекрасна, но нижняя… Она боялась взглянуть на него снова. Она вскочила бы и убежала, но боялась, что он погонится за нею, а мысль об этой погоне и неизбежном пленении холодила ей сердце. Нам всегда страшно представить себе что-нибудь у себя за спиной. Топот погони страшнее, чем убийство, от которого мы бежим. Поэтому она сидела и ждала, но ничего не происходило. Наконец, отчаявшись, она отняла ладони от лица. Он сидел на земле в нескольких шагах от нее. Смотрел не на нее, а вдаль, на раскинувшиеся холмы. Ноги его были скрещены; они были косматы и заканчивались копытами, как козьи: но она не стала смотреть на них из-за его прекрасного, грустного, ироничного лица. Приятно смотреть на веселье, и невинное лицо радует нашу душу, но ни одна женщина не может сопротивляться грусти или слабости, и безобразию она не смеет противиться. Ее природа стремится утешать. В этом ее смысл. Это погружает ее в экстаз, где ничто, кроме принесения себя в жертву, не имеет никакой размерности. Мужчины — отцы не по инстинкту, а по случайности, но женщины — матери превыше помысла, превыше инстинкта, который есть отец мысли. Материнство, жертвование себя — вот побуждения ее клеток, и даже то открытие, что все мужчины — шуты, лгуны и эгоисты, не отвращает ее от этого. Девушка смотрела на печаль его лица, и забывала о безобразии его тела.
Женщины молчат о звере, сидящем во всех мужчинах; это их ребячливость, разрушительная энергия, неотделимые от молодости и возвышенного духа, и женщины всегда прощают эти качества, часто забывают о них, а иногда, и нередко, пестуют и выхаживают.
После недолгого молчания он поднес флейту к губам и сыграл короткую жалобную мелодию, а потом заговорил с нею неожиданным голосом, похожим на ветер издалека.
— Как тебя зовут, Пастушка? — спросил он.
— Кэйтилин, Ингин Ни Мурраху[12], — прошептала та.
— Дочь Мурраху, — сказал он, — я пришел из далекой страны, где высокие горы.
Мужчины и девушки, что ходят за стадами в тех местах, знают меня и любят меня, ибо я — Покровитель Пастухов. Они поют и танцуют, они радуются, когда я прихожу к ним в солнечном свете, а в этой стране никто ничем не почтил меня. Пастухи разбегаются, слыша мои флейты на пастбищах; девушки визжат от страха, когда я выхожу на луг потанцевать с ними. Я так одинок в этой чужой стране. Ты тоже, хоть и танцевала под музыку моих флейт, закрыла от меня лицо и не почтила меня.
— Я сделаю все, что вы скажете, если так надо, — промолвила она.
— Ты должна делать что-нибудь не потому, что так надо, но потому, что таково твое желание. Надо — это слово, и Нельзя — это слово, но солнце встает утром, и роса ложится вечером, не думая об этих словах, не имеющих смысла. Пчела летит к цветку, и пыльца разносится, и она счастлива. Так надо, Пастушка? — и нельзя тоже. Я пришел к тебе, потому что пчела летит к цветку — так нельзя! Если бы я не пришел к тебе, к кому бы я пошел? Не бывает надо или нельзя, но только воля богов.
— Я тебя боюсь, — сказала девушка.
— Ты боишься меня потому, что мои ноги косматы, как ноги козла. Посмотри на них хорошенько, о Дева, пойми, что это и есть ноги зверя, и ты не будешь больше бояться. Разве ты не любишь зверей? Наверняка ты любишь их, потому что они тянутся к тебе, смиренно или страстно, подсовывая головы под твою руку, так же, как я. Если бы я не был устроен так, я не пришел бы к тебе, поскольку не нуждался бы в тебе. Человек — и бог, и скот. Он возносится головой к звездам, но ноги его покоятся в полевых травах, и когда он отречется от скота, с которым вместе стоит, то не будет больше ни мужчин, ни женщин, и бессмертные боги развеют этот мир, как дым.
— Я не знаю, чего ты хочешь от меня, — сказала девушка.
— Я хочу, чтобы ты захотела меня. Я хочу, чтобы ты забыла, что надо и что нельзя; чтобы ты была счастлива, как звери, беззаботна, как цветы и птицы. Чтобы ты жила в глубинах своей природы так же, как и в высотах. Истинно, в высотах есть звезды, и они станут венком на твоем челе. Но глубины равны высотам. Дивно глубоки те глубины, и богата глубочайшая глубина. Там тоже есть звезды, ярче тех звезд, что в вышине. Имя высот Мудрость, а имя глубин — Любовь. Как они соединятся и принесут плоды, если ты не нырнешь глубоко и бесстрашно? Мудрость — вот дух и крылья духа, Любовь — косматый зверь, опускающийся вниз. Он смело ныряет за пределы мысли, за пределы Мудрости, чтобы восстать над ними так же, как он опустился сперва. Мудрость праведна и чиста, Любовь же нечиста и свята. Я воспеваю зверя и падение: великая нечистота очищает себя в огне: мысль, рожденная мерилами не льда, не головы, а ног, горячей крови и биения Страсти.
Венец Жизни возложен не на солнце: мудрые боги погребли его глубоко, где ни мыслящая воля не найдет его, ни добро: но Веселые, Смелые, Беззаботные Ныряльщики, они вынесут его к мудрым и поразят их. Все видно при свете — как же ценить то, что легко увидеть? Но драгоценности, которые сокрыты — наш поиск сделает их еще ценнее: наша печаль сделает их прекрасными: они будут благородны, потому что мы желаем их. Пойдем со мной, Пастушка, по полям, и мы будем беззаботны и счастливы, и оставим мысли найти то, что она сможет найти, ибо таков долг мысли, и она больше стремится найти нас, чем мы — быть найденными.
И так Кэйтилин Ни Мурраху встала и пошла с ним по полям, и пошла она с ним не из-за любви, и не потому, что поняла его слова, а только потому, что он был наг и не стыдился.
Именно по поводу своей дочери Михаул МакМурраху пришел к Философу. Он не знал, что с ней, и мог предоставить в распоряжение своему советчику лишь немногие факты.
Михаул оставил Тощую Женщину с Инис-Маграта нюхать табак под сосной и вошел в дом.
— Господь со всеми здесь, — сказал он, войдя.
— И с тобой Господь, Михаул МакМурраху, — ответил Философ.
— Я сегодня в большом затруднении, сэр, — сказал Михаул, — и если бы вы могли дать мне совет, я был бы вам очень обязан.
— Это я могу.
— Никто не сделает этого лучше, чем ваша честь, и это вовсе вас не затруднит.
Насчет стиральной доски вы дали мне замечательный совет, и если я не приходил до сих пор поблагодарить вас, то не потому, что не хотел, а оттого, что не мог пошевелить ни ногой, ни рукой от приступа жуткого ревматизма, который навели на меня лепреконы с Горта-на-Клока-Мора, чтоб им пусто было: так меня скрючило, что у вас глаза бы заболели от одного моего вида, а боль была такая, что вы бы просто очумели.