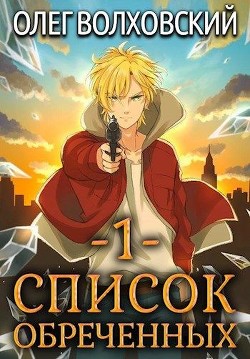— Была резня англичан в Кабуле. Они убили английского посланника и пронесли голову по всему городу.
— Очень на них похоже. Когда это было?
— В 1841-м. Потом была резня по всему Афганистану.
— А англичане?
— Собрались с силами, снова взяли Кабул, но не остались там. Заключили мирный договор с эмиром.
— Может так и надо? Не пытаться оккупировать, а договориться. Не удержим мы их все равно.
— Хорошо, что папá этого не слышит, — заметил Никса.
— Папа у нас почти замечательный. Ну тормозит немного, ну, пребывает в плену стереотипов, ну не просекает исторических закономерностей, ну, видит не слишком далеко вперед. Но всё-таки не совсем слеп. И про войну все поймет, если ввяжется в большую. Насмотрится на раненых в госпиталях, услышит их стоны, увидит мертвых на полях сражений — и все поймет. Но будет поздно. Поймет. Но не переживет.
— Когда ты пророчествуешь, становится страшно, — сказал Никса.
— Ну, так! — хмыкнул Саша. — Не зря же пророков убивали, Истина — не самая приятная вещь.
Николай закашлялся.
— Так! — сказал Саша.
— Да все в порядке.
— Для кого-то, может, и в порядке. Здесь вино можно достать?
— Не ожидал от тебя.
— Можно подумать, здесь есть нормальные лекарства!
— Вино — это к Мамонтову, — сказал Никса.
— Ага! Значит, не я первый.
Черноглазого живого кадетика, который обзывал Остроградского «хохлом» Саша нашел во время обеда.
— Будет сделано, Ваше Высочество, — сказал он. — Какое?
— Красное. Тихое. Да хоть молдавское.
— Ваше Высочество, вы уверены?
— Уверен. Это кощунство из французского глинтвейн варить. Чем хуже вино, тем лучше из него глинт. Главное уложиться в пять рублей.
— Сколько бутылок?
— Вообще это для цесаревича. Но, чтобы никому не было обидно, штук пять. Уложимся?
— С молдавским уложимся.
И Саша дал себе зарок дома проверить цены по табличке Гогеля. И с ними честность кадета Мамонтова.
— Еще нужны пряности, — добавил Саша. — Черный перец, корица и гвоздика. И сахар или мед.
— Найду, — сказал Мамонтов.
И Саша отсчитал деньги, с тоской осознав, что всех сбережений осталось 90 копеек.
— Как бы нам сделать так, чтобы до Гогеля с Зиновьевым не дошло…
— Второй кадетский корпус, — улыбнулся Мамонтов.
— Гениально! Условный противник.
И Саше вспомнились байки о том, как во время гражданской войны в США враги по вечерам устраивали совместные посиделки, а утром вставали и шли сражаться друг с другом дальше.
Никса пил чай третий раз за день и выглядел, вроде, получше. Малиновое варенье Саша выпросил лично (то бишь через лакея) у кухарки Фермерского дворца. Оно ужасно пахло медом, который Саша терпеть не мог, но вкус имело вполне привычный.
Народный рецепт, похоже, работал.
После ночных маневров кадетам дали отдохнуть, и Никсе не надо было идти на стрельбы или на плац. Лагерь подходил к концу, и было понятно, что запланированные винные посиделки — это в общем прощальное мероприятие.
— Ну, как? Готов поработать моим цензором? — спросил Саша.
И потянулся за гитарой.
— Давай! — сказал Никса, отпивая чай.
Гогель с Зиновьевым в очередной раз вышли покурить, так что Саша понадеялся, что премьера песни обойдется без лишних слушателей. В употреблении воспитателями «смердящего зелья» Саша находил все больше положительных моментов.
«Трубач» Щербакова там в будущем всегда был в его репертуаре, так что аккорды он вспомнил без труда, успел напеть в одиночестве еще до обеда и теперь начал вполголоса:
Ах, ну почему наши дела так унылы?
Как вольно дышать мы бы с тобою могли!
Но — где-то опять некие грозные силы
Бьют по небесам из артиллерий Земли…
На «вольно дышать» Никса слегка приподнял брови, но не более того.
И Саша продолжил.
Куплет про то, что «небо не ранишь мечом» прошел без эксцессов.
Но потом было:
Ах, я бы не клял этот удел окаянный,
Но — ты посмотри, как выезжает на плац
Он, наш командир, наш генерал безымянный,
Ах, этот палач, этот подлец и паяц!
Никса нахмурился.
— Мне прекратить? — спросил Саша.
— Нет, я хочу до конца дослушать.
— Я просто подумал, что это же абстрактно, про власть вообще, не сказано же про кого.
— Мелодия хорошая, — сказал Николай. — Продолжай.
Саша продолжил:
Брось! Он ни хулы, ни похвалы не достоин.
Да, он на коне, только не стоит спешить.
Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин,
Он — лишь человек, что же он волен решить?
Никса стерпел. На «невозмутимом, как Юпитер, одиноком трубаче» даже заулыбался.
И Саша пропел:
Я ни от чего, ни от кого не завишу.
Встань, делай как я, ни от кого не завись!
— Гм… — сказал Никса.
И Саша сделал паузу.
— Все? — спросил брат. — Это конец?
— Нет.
— Так заканчивай, если начал.
Саша кивнул и допел:
И, что бы ни плёл, куда бы ни вёл воевода,
Жди, сколько воды, сколько беды утечёт.
Знай, всё победят только лишь честь и свобода.
Да, только они, всё остальное — не в счёт…
— Концовка хорошая, — сказал Никса, отпивая дымящийся чай.
— Можно?
— Я еще не решил. Давай еще раз.
Саша исполнил на бис.
— Саш, не надо это петь, — выдал Николай экспертное заключение.
— Цензура — зло, — сказал Саша.
— Тираны они такие, — усмехнулся Никса.
— Знаешь, есть теория, что внешнее давление только помогает литературе, чем темнее годы — тем выше ее полет. Так вот: это полная ерунда!
— Дедушку многие ругают за цензуру, но ведь Пушкин, Лермонтов, Гоголь…
— Лучшие вещи Пушкина «Колокол» напечатал.
— Не лучшие, просто самые крамольные. А «Ревизора» дедушка отстоял, он был на грани запрета.
— Угу! Царю пришлось вмешиваться.
— При папá свободнее.
— И вот сейчас будет бум! Не три автора — целая россыпь шедевров.
— Ты сам согласился на мою цензуру.
— Я не против твоей цензуры, я против цензуры вообще.
Сашу всегда удивляло, почему наибольшая концентрация шедевров Серебряного века приходиться буквально на три года: 1905-1907-й. И вдруг стало совершенно понятно. Манифест же! 17 октября. Свобода!
Казалось бы, какая связь между манифестом и «Жирафом» или «Незнакомкой». Куда уж аполитичнее! А самая прямая: просто другое состояние души.
Еще что-то появлялось до 1917-го, несмотря на некоторый откат назад в политике: «Бессонница, Гомер…», «В ресторане».
А в 1918-м большевики все закатали под асфальт, уже в январе закрыв больше сотни газет. И кончился Серебряный век.
— Ладно, — сказал Саша. — Как скажешь. А то я надеялся, что ты мне на трубе подыграешь. У тебя твой корнет здесь?
— Нет, в Сосновом доме, но я могу за ним послать.
— Тебе не полезно сейчас, наверное. Когда выздоровеешь.
— Я прекрасно себя чувствую.
— Может, тогда отменим вечеринку?
— Это почему?
— Потому что у нее цель чисто медицинская.
— Не отменим. Чтобы уж наверняка.
Корнет прибыл в течение часа.
Он представлял собой свернутую несколько раз медную трубу с клапанами и пистонами. И был, пожалуй, красив.