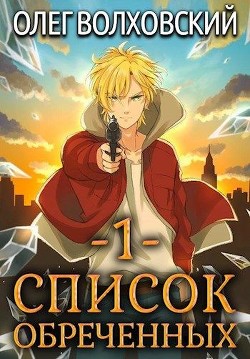— И перепутать губку с носовым платком, — добавил Скалон.
— И говорят, что, когда он возвращается в свое имение в Полтавской губернии, становится совершенным хохлом, даже говорит по-малороссийски.
— Да он и так хохол хохлом, — хмыкнул Мамонтов. — Даром, что петербургский сановник.
Саша поморщился.
— Все-таки меня бесит желание на любом солнце найти пятна. Этот хохол, тот жид, а иной, может, вообще черт косоглазый. А я, знаете, счастлив тем, что в одно время живу с такими людьми, как Остроградский. Что хожу с ними по одной земле!
— Саша, — улыбнулся Никса, — не испепеляй Мамонтова взглядом, а то его папá нас не поймет, когда мы вернем ему горстку пепла. Мне как запретить потом страшное слово «хохол»? А как же свобода слова?
— Я обещал папа не пересказывать американскую конституцию, — заметил Саша. — Впрочем свобода слова и в «Декларации прав человека и гражданина есть». А она французская, и про нее уговора не было. Конечно, свобода слова. Испепелять взглядом можно, припечатывать словом можно, затыкать рот — нельзя.
— А знаете, какие сочинения нам сдавать зимой? — перешел на другую тему Скалон. — По истории: «Борьба императора Генриха IV с папой Григорием VII», по законоведению: «Историческое развитие законодательной власти в России», по военной истории: «Трехдневный бой под Красным», по литературе: «Влияние Буало на литературу европейских народов».
— Круто! — оценил Саша.
Честно говоря, он смутно представлял себе, кто такой Буало.
— Ну, про законодательную власть я, может еще напишу, — сказал он. — Хотя, какая в России законодательная власть, если она не отделена от двух прочих?
— Са-аша! — протянул Никса.
— Никса, — сказал Саша, — это не американская конституция, про разделение властей у Монтескьё есть.
— Ты столько раз помянул американскую конституцию, что они теперь сами прочитают, — сказал брат.
— Конечно. Чего и добиваюсь.
— У нас последний «Колокол» ходит по рукам… — вполголоса сказал Скалон. — Но я не скажу, кто принес.
— А я не буду спрашивать, — улыбнулся Саша. — Мне в четверг на стол легли сразу три. Но я не скажу, кто прислал. Никса, ты ведь тоже не будешь спрашивать?
— «Не мне их судить», — процитировал Никса.
— Но «К Элизе» не сыграю, — сказал Саша. — Фортепьяно нужно.
— Гитара есть, — сказал Никса.
— Это для песенок, и чуть позже.
Саша достал палкой картофелину из костра и положил в траву остывать.
— Голодный менестрель — плохой менестрель, — прокомментировал он.
— А правда, что Великих князей не учат латыни? — спросил Скалон.
— Правда, — кивнул Никса. — Дедушка запретил.
— Завидую, — признался Скалон.
— Все, — усмехнулся Саша. — Просим у папá латынь. Чтобы не завидовали.
— Я тебе попрошу! — сказал Никса.
Из «песенок» до отбоя Саша успел спеть только одну. Но обойтись без нее было никак нельзя. Ибо ролевой гимн:
Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от мелких своих катастроф.
Детям вечно досаден
Их возраст и быт —
И дрались мы до ссадин,
До смертных обид,
Но одежды латали
Нам матери в срок,
Мы же книги глотали,
Пьянея от строк…
Липли волосы нам на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой сладко от фраз,
И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших слетая на нас.
И пытались постичь
Мы, не знавшие войн,
За воинственный клич
Принимавшие вой, —
Тайну слова «приказ»,
Назначенье границ,
Смысл атаки и лязг
Боевых колесниц…
Только в грёзы нельзя насовсем убежать:
Краткий век у забав — столько боли вокруг!
Попытайся ладони у мёртвых разжать
И оружье принять из натруженных рук.
Испытай, завладев
Ещё тёплым мечом
И доспехи надев, —
Что почём, что почём!
Разберись, кто ты: трус
Иль избранник судьбы,
И попробуй на вкус
Настоящей борьбы.
И когда рядом рухнет израненный друг
И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,
И когда ты без кожи останешься вдруг
Оттого, что убили его — не тебя, —
Ты поймёшь, что узнал,
Отличил, отыскал
По оскалу забрал —
Это смерти оскал!
Ложь и зло — погляди,
Как их лица грубы,
И всегда позади
Вороньё и гробы!
Если мяса с ножа
Ты не ел ни куска,
Если руки сложа
Наблюдал свысока,
И в борьбу не вступил
С подлецом, с палачом, —
Значит, в жизни ты был
Ни при чём, ни при чём!
Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты солёные слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал что почём, —
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
— Здорово! — сказал Скалон. — Ваше? Просто очень не похоже на остальное.
— Остальное уже в народ пошло? — поинтересовался Саша.
— Многое, — сказал Скалон.
— Конечно не мое, — вздохнул Саша. — Был такой Высоцкий. Это «Баллада о борьбе».
— А! — подключился Мамонтов. — Кажется что-то слышал. Гитарист, играл на семиструнке. Михаил Тимофеевич Высотский. Только он выходец из крепостных, образования не получил, хотя и с успехом давал концерты. И умер, не дожив до пятидесяти, потому что спился. Но у него больше про «Во саду ли, в огороде». «Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф», — это крестьянин писал?
— «Лязг боевых колесниц» — особенно по-крестьянски, да, — заметил Скалон.
— Зато «но одежду латали нам матери в срок», — возразил Саша.
— Автор — человек не богатый, но образованный, — предположил Скалон. — Может, из попов. Или из обедневших дворян. Но не из крестьян.
— И вы играете на испанской гитаре, на шестиструнной, Ваше Высочество.
— Это переложить можно, — сказал Саша. — Оригинал действительно был написан для семиструнной. Но думаю, что это другой Высоцкий. Может быть, менее известный. Звали его Владимир Семенович и был он из военного сословия. Точно помню, что отец его был офицер и воевал. То ли в Венгерскую кампанию, то ли в Русско-турецкую.