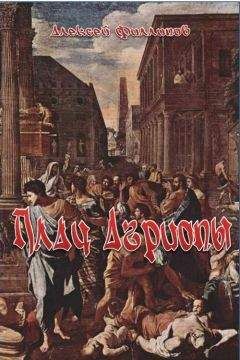Камни? Это и впрямь были камни?
Тогда почему от них исходил тихий звон? Почему тянулось сладкое зловоние разлагавшейся плоти?
- Это… свиньи… — выговорил Павел заплетавшимся языком. — Дохлые свиньи…
Он постарался перебраться через бойню — через несколько десятков сгнивших туш. Нога соскользнула — и управдом упал в мягкое гнилое мясо. От вони у него едва не вышибло дух. Болото пахло, как розовый куст, в сравнении с этим!
Звон изменился, сделался злым. Управдом понял, что это: не звон — жужжание.
Тысячи оводов поднялись с трупов. Жирных, раскормленных оводов.
- Бежим! — Павел, словно возвращая богомолу долг, схватил того за запястье и потащил за собой. Жала вонзались в спину, в шею… Как ни странно, оводы стали для беглецов благом: уколы, достававшиеся от них, были отчаянно болезненны, и потому нивелировали зуд, которым наградила мошкара.
«Бабах!» — над головой Павла взорвалась лампа.
«Ш-ш-ш», — приподнял волосы на макушке электрический разряд.
Рой оводов, гудевший ровно, на одной ноте, превратился в расстроенный оркестр.
И вдруг сзади, одна за одной, начали взрываться лампы.
Темнота приближалась к беглецам медленно, будто пастух с кнутом. Казалось, её задача — не накрыть с головой — только испугать: побудить живых наперегонки спешить к смерти.
Павел и не помышлял сопротивляться: он побежал, как велено, влача за собой инквизитора. Но слишком много сил было потрачено на пути.
Темнота догнала. И, как только за спиной беглецов сгустилась ночь, разом отключились и все светильники, что ждали впереди.
Темнота сделалась абсолютной.
Павел прислушался: темноту сопровождала тишина.
Ни низкого жужжания оводов, ни тонкого писка мошкары, ни кваканья лягушек, ни дуновения ветра. Не осталось ничего.
Он коснулся стены кончиками пальцев. Стена оставалась на месте, она не исчезла: и то неплохо.
Павел попытался почесать мошкариный укус на лбу, приложился всей пятернёй — и замер. Его охватило предчувствие какого-то жуткого открытия — он ещё не понимал, какого.
Он ещё раз провёл ладонью по лбу — теперь уже аккуратно, неспешно.
Лоб был горячим. И продолжал нагреваться, как вода в чайнике, поставленном на газ. С той же скоростью и той же интенсивностью.
Босфорский грипп! Павел и не подозревал, как сильно боится заболеть! Все оводы и лягушки мира не шли ни в какое сравнение с этой бедой! «Неужели — случилось?» — одинокой стрекозой затрепыхалась мысль в голове. После стольких контактов с заражёнными, после того, как он уверил себя самого, что обладает иммунитетом! А с чего он взял, что у него — иммунитет? Может, всего лишь удача? Та, что приходит и уходит, как кошка, когда пожелает?
С ужасом Павел ощущал, как подмышкой растёт бубон. Как наливается грудь тяжёлой ноющей болью. Он осел, грузно опустился на пол. Понял: всё было напрасно. Сколько всего: усилий, жизней, крови и зарождавшейся веры — погублено зря! Его болезнь, похоже, развивается со скоростью курьерского поезда. Значит, достаточно посидеть на холодном камне час… на холодном… на камне, который так приятно холодит зад… а если ещё прислониться к стене — холодок дойдёт до позвоночника, поцелует в макушку…
Дуновение смерти тоже приятно. И тоже несёт прохладу. Она уже завила управдому локон, крохотным смерчем пройдясь у виска…
В утомлённом, измученном сознании возникла картинка: книга в толстом переплёте. Антикварная, дорогая…
«Библия, — угадал Павел, — а на ней…» Он сощурился. Не наяву — в воображении. Там это оказалось сложнее. И всё-таки он разглядел: на Библии сидел зелёный богомол.
Вот тот соскочил с обложки — и страницы, сами собой, стали перелистываться, вертеться.
Остановились там, где неведомый художник изобразил коленопреклонённых бородатых людей, на фоне треугольных пирамид.
Управдом нахмурился. Он никогда не любил ребусы. Или глубокомысленные послания, в форме ребусов… Опять вспоминать религиоведение — треклятый университетский курс… Хотя подсказка, на сей раз, хороша… Так и просится на язык…
Казни египетские!
Павел похолодел. Что там было, по библейской, неисторической, правде? Десять казней! Всего не упомнишь. Но начиналось — с крови. Вода превратилась в кровь. А потом были лягушки, жалившие строптивых египтян мухи, мор скота, саранча… Управдом, со страстью бредившего, рассердился на богомола: если «египетские казни» — его подсказка, — где саранча? Да и порядок насылаемых на народ фараона кар, вроде бы, был иным, чем в его, Павла, случае? Если лениться, погружаться во бред, умирать — можно оставить умствования и на этом закругляться. Его не касаются египетские казни — его коснулся Босфорский грипп…
А если плюнуть на последовательность, на недостачу саранчи… Там точно была непроницаемая абсолютная тьма. Точно были язвы и нарывы… Но если это так — значит, последняя казнь…
Ослепительно вспыхнул свет. Павел ослеп бы, если б не половинчатость взошедшего подземного солнца. Взорвавшиеся лампы, которые беглецы оставили за спиной, не воскресли. Зато те, что просто отключались, теперь светили, как мощные прожектора.
- Последняя казнь — смерть первенцев, — пробормотал управдом, и, словно отвечая на его слова, откуда-то с потолка — из высокого колодца, обнаружившегося впереди, — ударил упругий луч последнего прожектора. Ударил — и высветил небольшое возвышение, своего рода постамент, на котором возлежало маленькое человеческое тело.
Да, коридор изменился. Он прервался — завершился широким и уводившим куда-то вверх круглым каменным колодцем. Павел старался не думать, произошли ли в темноте радикальные изменения окружающего пространства. Смещались ли стены, сдвигался ли потолок. Было несомненно лишь то, что его путь — завершён. Управдом поднялся с пола и поковылял к каменной плите. Яркий луч света обрисовывал смертное ложе чётким кругом. Он словно покрывал тело тонким прозрачным балдахином. За пределами светового пятна предметы виделись смутно. И всё же, добравшись до плиты, Павел заметил металлическую лестницу, типа пожарной, позади постамента. Невозможно было утверждать, что лестница — спасение, но управдом не сомневался: это — выход из подземелья. Трудность состояла не в том, чтоб выбраться на поверхность — но в том, чтобы заставить себя сделать это. Найти причины, по которым следовало бы продолжать жить там, наверху.
На тяжёлой каменной плите, слишком хрупкая и маленькая для этого ложа, лежала Танька.
Она была холодна, неподвижна, мертва.
Павел упал на колени перед телом, его била дрожь, сокрушал жар лихорадки. Он рыдал, удерживая в ладонях тонкую руку Таньки. В каком-то захолустье, медвежьем углу разума светлячком полыхало: «Это не по-настоящему!» Но пальцы отвечали: «Это правда, мы чувствуем её». Но глаза отвечали: «Это правда, мы видим её». И душа кричала: «Это правда! А что ещё — правда, если не то, что чувствуешь и видишь; если не тот, по кому скорбишь!»