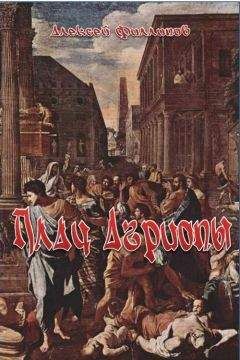Она была холодна, неподвижна, мертва.
Павел упал на колени перед телом, его била дрожь, сокрушал жар лихорадки. Он рыдал, удерживая в ладонях тонкую руку Таньки. В каком-то захолустье, медвежьем углу разума светлячком полыхало: «Это не по-настоящему!» Но пальцы отвечали: «Это правда, мы чувствуем её». Но глаза отвечали: «Это правда, мы видим её». И душа кричала: «Это правда! А что ещё — правда, если не то, что чувствуешь и видишь; если не тот, по кому скорбишь!»
Танька казалась уставшей, прилёгшей отдохнуть. Красные прожилки на лице, тёмные чумные пятна на шее почти не уродовали её. Чумазой — не чумной, — вот какою она стала, когда легла на камень. Свет, каменная плита, всё пространство воздушного колодца вокруг — как будто наполнились сочувствием. Они шептали Павлу: «Посмотри, разве смерть — не утешение?». И ещё: «Разве это дитя будет где-то более счастливо и спокойно, чем здесь?» Они требовали: «Уходи! Не тревожь её. Она никогда не оборотится прахом, никогда не исчезнет. Останется здесь на века. Что ты дашь ей, превыше этого: превыше вечности, неразрушимости, превыше этой участи забальзамированных фараонов, которые так бездумно отрицали божью волю, не страшились жестоких казней».
- Я дам ей весь мир, — упрямо прокашлял Павел. Губы отказывались двигаться, язык — ворочаться во рту. Тело молило об избавлении от боли. Но управдом теперь знал твёрдо: боль — это жизнь. Он приподнял тельце Таньки над постаментом, мягко, бережно, опустил его на каменистый пол колодца. Распрямился.
В голове ухнул колокол: «Бум-м-м-м-м!». Кровь бросилась в глаза и уши, замельтешила цветными кляксами, заслонила собою всё.
А когда отхлынула кровь — Павел понял, что его оставил жар. Он пошарил рукой под рубашкой, поискал желваки бубонов — и не нашёл их. Он ощупал лицо — то не пугало уродством, на ощупь не отличалось от небритого зеркального отражения, хмуро взиравшего на Павла вот уже лет пять или семь. Тело Таньки исчезло. Как иллюзия, облачко в ветреный день, снежинка на ладони. А на каменной плите лежал теперь серебряный пистоль с угольно-чёрным стволом. Управдом поднял его, небрежно засунул за пояс.
Богомол приблизился, долгим взглядом проводил пистоль. Пристально, как хороший врач, вгляделся в лицо Павла. Наверное, его порадовало то, что он увидел. Авран-мучитель слегка кивнул — и первым начал подниматься по бесконечной лестнице наверх. Павел, не оглядываясь, взялся за железные скобы и последовал за инквизитором.
Отвесная железная лестница — не та дорога, которая покоряется ленивым и слабосильным. Управдом не был уверен, что доберётся до конца, не сорвётся. Он приступал к подъёму в каком-то полусне, полуобмороке, — доверяя рукам и ногам больше, чем разуму. Разум, испугавшись тысячи ржавых непрочных скоб, зажёг бы красный свет, крикнул бы: «Стоп!» А руки и ноги, как в том армейском анекдоте, соглашались работать «от забора до обеда»: сгибались и разгибались, натруживали мышцы, заставляли кровь быстрее бежать по венам, а сами вены — становиться тугими, проявляться под кожей. И всё-таки Павел не уставал.
Напротив, с каждой новой преодолённой скобой, он ощущал прилив сил. Болезнь оставила его, а теперь — ещё и возвращала позаимствованные на время силы. Неохотно, по чуть-чуть, но — возвращала. Морок развеялся — Павел избавлялся от страха. Не перед болезнью — перед настоящим и будущим, перед собственной усталостью. Даже прихрамывавшая после давней операции нога неожиданно «разогрелась», разработалась. Управдом казался сам себе псом, что разжирел в городской квартире, а теперь вот вырвался на васильковое поле и ошалел от свободы. Его не пугала темнота, сгущавшаяся, по мере того, как освещённый коридор удалялся. Чем закончится лестница? А если — захлопнутой дверью, заключенной решёткой? Разум что-то бубнил: «благоразумие», «осторожность». А руки и ноги — не останавливались, — походили на поршни машины, подгоняемые паром.
Сверху раздался сильный удар, потом звон. Не серебра о фарфор и даже не разбитого стекла — тяжёлого металла об асфальт. Потянуло вечерней свежестью, пахнуло гарью, послышался низкий гул — говор множества возмущённых голосов.
Павел поднял глаза вверх — впервые с момента начала подъёма по скобам. На него смотрела через проём люка крупная холодная звезда. Её вдруг заслонила тень: уплотнилась, оформилась, сделалась рукой помощи. Управдом ухватился за этот сгусток темноты — и ощутил материальность руки. Мгновение — и он перевалился животом через край канализационного люка. Ещё мгновение — и откатился от опасной пропасти подальше.
Богомол рассматривал его пристально, «взыскательно» — вот подходящее слово. Как будто пытался понять, что за человек, под личиной Павла, выбрался из подземелья. Стоит ли этому выползню доверять?
- Спасибо, — управдом поёжился под взглядом.
Богомолу словно бы только этого и не хватало: услышав голос, он кивнул — и - вроде бы — тут же потерял интерес к Павлу. Озаботился другим.
Авран-мучитель не прикасался к мыслям управдома, но — всем своим обликом — напоминал в эту минуту затаившееся в ожидании добычи плотоядное насекомое. А может, лесного хищника, взявшего след. Он как будто принюхивался. Извернулся всем телом и нацелился на мишень.
На ночное сборище. На толпу людей, заполонивших сквер. На факельное шествие.
Только сейчас Павел осознал странность действа, происходившего по соседству.
Буквально в ста шагах от канализационного люка, через который он вернулся в привычный мир, происходило что-то вроде митинга. Павел не узнавал места. Перед ним был незнакомый и обширный сквер: куда больше свободного пространства, чем имелось перед домом Еропкина. Поодаль — старая малоэтажная застройка. Похожих мест управдом помнил немало возле Бульварного кольца, но именно это — не узнавал. В сквере, вытаптывая клумбы и ломая кусты, толпились люди. Сотни людей перекрикивали друг друга, выхаркивали из себя в ночь что-то нервное и злое. В руках многие держали факелы. Оттого картинка казалась бликовавшей, размазанной. Иногда факелы кренились, выписывали пируэты, будто попав в руки пьяниц, изредка — падали, вместе с факелоносцами. В этом глупец усмотрел бы нечто комичное, но любой, кто был способен чувствовать и умел наблюдать, отшатнулся бы от толпы. Ею владело отчаяние. Заразное. То самое, какое побуждает к бессмысленным самоубийственным поступкам. Павел не сомневался: наилучшим для него выходом стало бы отступление; отход куда подальше от сквера. Но, вместо того чтобы оставить митинг за спиной, он поковылял в толпу. Его влекло туда что-то постыдное, мерзкое. Так благовоспитанная дама подглядывает за грязной оргией, не умея совладать с собой. Но свербело под ребром и ещё что-то, кроме паскудного любопытства. Управдом как будто нёс службу, и, по её долгу, обязан был влиться в общество бесноватых. Павел приближался к глоткам и факелам, выполнял долг.