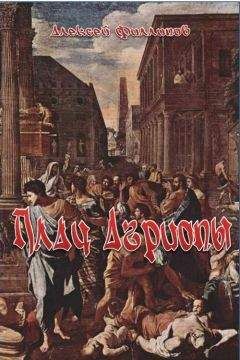Фома Стрелец требовал доказательств воскрешения Учителя. Многие другие в глубине души хотели того же. Для них казалось важным — знать. Знать, что тот, кого они звали Господом, не лгал им. Что все его обещания — истина. Что до сих пор существуют тело, и дух, и лик, и разум того, кто был распят на кресте. Для Иоанна это знание стоило недорого. Иоанн любил Учителя — только и всего. Бога ли, праведника ли, говорливого ли плотника, или непревзойдённого чародея — не так уж важно. Он любил его. Если б твёрдо знал, что Учитель — всего лишь человек, то и тогда бы пошёл за ним, как только тот позвал в путь за собою. Иоанн не раз размышлял: а поступили бы так другие ученики? Или для них куда более важным представлялось божественное, замурованное во плоти? Может, именно поэтому — чтобы не видеть кровавых ран на истерзанном человеческом теле — чтобы не усомниться в том, что служили Господу, а не обману, — они побоялись присутствовать на казни? Только женщины были там — и он, Иоанн. Не затем, чтобы, с дотошностью летописца, следить, как умирает Сын Божий, а затем, чтобы проститься с человеком и другом.
Не придумать прощания страшней. Но как насчёт него — распятого? Если он — и впрямь Божий сын, — у него в запасе — вечность. У него в рукаве — всеведение. А если человек — как отобрать у человека право на последний взгляд? И Учитель, умирая, не отводил глаз от своей матери и Иоанна. Он мог бы поднять глаза к небу — не смотреть на лица йерушалаимских зевак, обезображенные злобой или любопытством, но, вместо этого, искал в толпе то Марию, то Иоанна. После нескольких часов на кресте сосредоточиться ему сделалось сложно — часто его взгляд бессмысленно блуждал по толпе, — но, каждый раз, в итоге находил в ней мать и самого кроткого ученика — и, на короткое мгновение, просветлялся. И каждый раз, отвечая Учителю взглядом на взгляд, Иоанн пытался передать тому часть собственной силы, крупицу мужества. То немногое, что у него самого ещё оставалось. Часть силы и крупицу мужества, в которых нуждался человек, но не нуждался бог.
Для Иоанна было немыслимым оставить учителя. Живой, мёртвый, или обратившийся в призрак, тот вёл его за собой. Симон Пётр, несмотря на своё троекратное отречение, тоже не помышлял об этом. Но по иной причине. Он был убеждён, что Учитель — Господь. А значит, его учение — и есть истинная драгоценность. Не тело, изувеченное страшным кнутом-скорпионом во время римского бичевания, не сердце, пронзённое копьём, — мысль, облечённая в слова проповедей. Симон отрёкся не из трусости — из верности учению. Ему ведь — и никому иному — взращивать, отстраивать Церковь. Не на небе — на земле. Не станет строителя — не восторжествует и Церковь. Симон был камнем — весомым, неразрушимым, не ведавшим сомнений. Симон был воином, Иоанн — плакальщиком.
Потому Иоанн, вместе с братом, Иаковом, с готовностью отправился в Галилею вслед за Симоном и ни разу не оспорил верховенство последнего над собою. Четверо других учеников, решившихся на это путешествие, тоже подпали под влияние Симона. А тот, ощущая это, то и дело начальствовал, указывал, как и кому поступать. Впрочем, указания почти всегда походили на просьбы, а то и на добрые советы: из Симона со временем мог получиться отличный пастырь — стоило лишь ему научиться обуздывать гнев и держать меч в ножнах.
Добрались до моря Киннереф, когда заходило солнце. Все утомились в дороге. Симон Пётр, Фома, Нафанаил, сыновья Зеведеевы — Иаков и Иоанн, — и ещё двое. Все — еле на ногах держались. А Симон, не дав отдыха, возьми да и позови — рыбу ловить. Вот и пойми, что лучше — голод или усталость. Тут и прояснилось: слушали Симона, верили ему — даже в таком деле — верили. Отправились рыбачить, на ночь глядя.
А рыба в сети не шла. Иоанн бы смирился, Симон — нет. Вроде и зла в нём не было, а что ни слово — гвоздь. Словно бы пригвоздил всех к лодке. Сам же, как у печи, разгорячился — даже разделся до хитона, хотя ветер по морю гулял сильный: холодил спины рыбакам, поднимал волны. К полуночи и вовсе разошёлся. Иоанн продрог. Остальные рыбаки тоже зябко ёжились. И всё же никто не завёл разговор о возвращении на берег — о возвращении с пустыми сетями, ни с чем. Как будто каждому сделалось стыдно — не перед Симоном — перед собою. Хотя всем было ясно: якорь, удерживавший лодку вдали от берега, на волнах моря Киннереф, — Симон Пётр — Симон Камень — и никто иной. И ни что иное.
На спор с сильным ни у кого не оставалось сил. Да и убеждённости в правоте — не оставалось. Ночь словно примирила их, семерых, друг с другом. Лодка раскачивалась, луна временами пробивалась сквозь облака, но чаще — едва серебрила их своим светом, холодный ветер, насыщенный мельчайшими частицами влаги, оглаживал своей тяжёлой ладонью людям щёки и лбы. Сети всё ещё волочились за бортом, будто дань чему-то простому, понятному, — тому, с чем так просто было когда-то жить. Но за уловом уже никто не следил. «Что делаете вы здесь?» — если бы спросил так любой обитатель здешних мест — хотя бы какой-нибудь любопытный мальчишка из Капернаума, — они бы ответили: «Ловим рыбу, чтобы насытиться самим, а излишек — продать». И это бы значило: они всё ещё способны на простое. Не только на сопричастность великим чудесам и великой скорби — но и на рыбную ловлю, как когда-то. Иоанн знал: им всем это казалось важным. Делать что-то, что зависело бы от них самих, а не от того, кто был распят и в третий день воскрес, согласно пророчеству. Иначе, без него, они — неприкаянны, они — сироты. Они, семеро, ловили рыбу в тёмных глубинах моря Киннереф, — но понимали, что обманывают себя. Им уже никогда не сделаться прежними. Не снискать радости в простых делах и заботах. Даже время теперь для них текло по-иному. Мысль поедала время.
Луна проглотила всю долгую ночь, целиком, как хрусткую лепёшку. Человеческая мысль проглотила Луну. А солнце, едва показав острый край своего диска над волнами, проглотило раздумья.
С восходом солнца семеро зашевелились, расправили затёкшие плечи, переглянулись, едва решаясь смотреть друг другу в глаза. Меж ними воцарилось вдруг странное единодушие — пожалуй, и единомыслие тоже. Хотя оно не походило на единство мысли и души влюблённых, или членов дружной семьи, или хороших приятелей. Скорей, напоминало круговую поруку головорезов после клятвы, данной на крови. Как бы там ни было, они, семеро, научились обходиться без слов, понимать друг друга — без слов. Не сговариваясь, выбрали пустую сеть, повернули к берегу. Фома и Нафанаил орудовали вёслами, как дубинами, но лодка всё ж двигалась в верном направлении. Иоанн заметил: ветер и волны отнесли её за ночь от длинной песчаной косы, от какой начиналось плавание. Теперь рыбаки приближались к берегу тёмному, глинистому, усеянному крупными камнями. А над берегом клубился туман. Странный туман, в котором словно бы роились пчёлы и проблёскивали крохотные молнии. Его не было нигде, кроме того места, к какому стремилась лодка. Зато там, где он был, он был жив, подвижен, походил на тесто, постоянно менявшее форму. Туман как будто не мог успокоиться, решиться навсегда замереть, оборотиться в зверя, птицу, или чудовище. А потом — из него выступил человек.