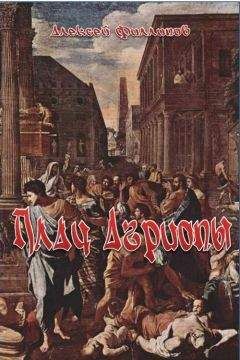Луна проглотила всю долгую ночь, целиком, как хрусткую лепёшку. Человеческая мысль проглотила Луну. А солнце, едва показав острый край своего диска над волнами, проглотило раздумья.
С восходом солнца семеро зашевелились, расправили затёкшие плечи, переглянулись, едва решаясь смотреть друг другу в глаза. Меж ними воцарилось вдруг странное единодушие — пожалуй, и единомыслие тоже. Хотя оно не походило на единство мысли и души влюблённых, или членов дружной семьи, или хороших приятелей. Скорей, напоминало круговую поруку головорезов после клятвы, данной на крови. Как бы там ни было, они, семеро, научились обходиться без слов, понимать друг друга — без слов. Не сговариваясь, выбрали пустую сеть, повернули к берегу. Фома и Нафанаил орудовали вёслами, как дубинами, но лодка всё ж двигалась в верном направлении. Иоанн заметил: ветер и волны отнесли её за ночь от длинной песчаной косы, от какой начиналось плавание. Теперь рыбаки приближались к берегу тёмному, глинистому, усеянному крупными камнями. А над берегом клубился туман. Странный туман, в котором словно бы роились пчёлы и проблёскивали крохотные молнии. Его не было нигде, кроме того места, к какому стремилась лодка. Зато там, где он был, он был жив, подвижен, походил на тесто, постоянно менявшее форму. Туман как будто не мог успокоиться, решиться навсегда замереть, оборотиться в зверя, птицу, или чудовище. А потом — из него выступил человек.
- Дети, есть ли у вас какая пища? — проговорил он. Лица говорившего было не разглядеть — только одежду: длинную, светлую, до земли. Зато голос разносился над водами моря Киннереф легко, будто имел птичьи крылья.
- Нет ничего, — откликнулся Симон мрачно. В отличие от человека из тумана, Симону пришлось напрячь горло, чтобы извлечь звук, способный долететь до берега.
Иоанн изумлённо оглядел шестерых ближних. Шестерых учеников Его.
Даже привстал, чтобы заглянуть в лицо Симону.
Происходившее тревожило и потрясало его. Никто из шестерых — никто из верных — не признал в видении Учителя. Как такое могло быть? Да различали ли они и туман, из коего выступил тот? Вот же: и берег — светится, и камни на берегу сделались легче пушинок, и истина поселилась в сердце. Как будто горькую чашу сполоснули под родниковой струёй, а затем смазали по краям мёдом. И голос, говоривший с ними — разве не звучал тот сразу — в голове, в воде и на небе?
- Закиньте сеть по правую сторону лодки — и поймаете, — прозвенело, прошелестело всюду в подзвёздном мире. А Симон словно бы впервые заподозрил неладное: поднял голову, с внимательным прищуром пригляделся, через расстояние и тихие волны, к советчику. Но так и остался слеп. А ещё — нахмурился, начал наполняться гневом. Пожалуй, и дал бы отповедь человеку на берегу, если б не плеск.
- Глядите-ка, диво! — Фома перегнулся через борт лодки. Остальные последовали его примеру, едва не перевернув хлипкую посудину. За бортом — как раз там, где указал советчик, — бороздили воду плавники, забавлялись игрой мелкие рыбёшки и крупные рыбины, в три ладони длиной.
Лодку как восторгом окатило. Сеть бабочкой слетела на воду — и тут же отяжелела, наполнилась живым серебром.
Иоанн подобрался поближе к Симону: неужто тот впрямь слеп и глух? Радость иная должна была поселиться в рыбаках — радость не от мира сего. А поселилась — малая, преходящая. Радость от доброго улова. Как будто взрослых людей сделали детьми и предложили им детское — что-то, в чём нет и не было страдания и смерти. Но Иоанн не обманулся насчёт Симона: Симон Пётр сомневался; его лоб прорезала тонкая морщинка. Словно он вспоминал, вытягивал из памяти давно позабытое.
- Это Господь, — шепнул Иоанн Симону, одними глазами показав на человека, вышедшего из тумана.
Он и не ожидал, что сильнейший из них поведёт себя отчаянно. А тот огорошил всех: дёрнулся, как по щеке ударенный; вскочил со скамьи, едва не перевернул лодку. Это он позабыл, что почти наг, и бросился подбирать одежду, опоясываться. И всё это — балансируя на носу посудины, будто ярмарочный акробат. Безрассудство — молчаливое и внезапное — и после этого не утихло; оно даже расцвело; сорвало Симона с места. Тот, в мгновение ока, сделался похож на жалобного пса, чьи глаза видят хозяина на другой стороне пропасти, но чьё сердце — колеблется: устремляться ли в прыжок, бросаться ли через пустоту.
Симон Пётр, как был, в одежде, вдруг зажмурился — и сиганул за борт. Брызги не просто окатили лодку — умыли её и всех рыбаков. Те ошалели, замерли, потом принялись шарить глазами по волнам.
- Плывёт! — сообщил Фома.
Симон и вправду размашисто, шумно, плыл к берегу. Там было недалеко: рукой подать, чуть более двухсот локтей. Однако волны относили его от цели — от пятачка земли, укрытого серебристым туманом. Он сопротивлялся волнам, двигаясь, при этом, судорожно, угловато — может, и замёрз в воде. Наконец, отплёвываясь и со свистом, загнанно, дыша, Симон выбрался на берег — почти выбросился на него, прямо на острые камни, прямо в глину. Поднялся, отряхнул одежду — попробовал разом избавиться и от воды, лившейся с него ручьём, и от грязи. Он казался испуганным и счастливым одновременно. Он молчал, стоя лицом к лицу с Учителем — по виду, разрывался между желанием броситься перед тем на колени и приветствовать того, как равного. Молчали и остальные шестеро рыбаков. Они удержались от того, чтобы последовать за Симоном: взяли в руки вёсла, направили к берегу лодку.
В голове у Иоанна звучала музыка. Торжественная и трогательная сразу. Антифоном пели хоры — мужской и женский; кимвалы отбивали ритм, а еле слышная лира словно бы лила священное масло на прекрасные ангельские голоса. Точней, масло превращало человеческую речь — в ангельский напев. Иоанн оцепенел. Хотя лодка уже ткнулась носом в глинистый берег, и до Учителя отсюда было не более двух десятков шагов, Иоанн никак не мог разглядеть его лица. Каждый раз, как ученик пытался сделать это, на лицо Учителя падала тень: будто облачко набегало на солнце. Но зато из музыки, из гимна, звучавшего давным-давно и позабытого ныне — гимна, каким священнослужители приветствовали Господа в храме Соломона, — выступало лицо человека, которого Иоанн отчаянно и горько любил.
Ученики торопливо высыпали на берег. Бегом бросились к Учителю. Но тот повёл рукою, словно очертил перед собою круг, — и на границе очерченного поспешавшие замерли, присоединились к Симону, в чьём взгляде преданность, раскаяние и надежда торжествовали попеременно.
А Иоанн и здесь не дерзал встречаться с Учителем взглядом. Не дерзал. Боялся обмануться в вере. Был ли Учитель жив — так, как сам Иоанн и шестеро прочих? Когда те подошли, рассеялся туман. На месте тумана теперь потрескивал костёр, от него струился аппетитный аромат жареной рыбы и свежего хлеба.