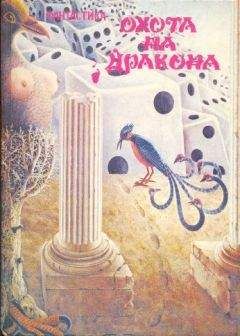Запыхавшийся после этой тирады, Боб перевел дух, с любопытством поглядел на капитана и майора и, поклонившись им, продолжал:
— Благодарствуйте, милостивые государи мои, за то, что позволили мне высказаться, заверяю, что не буду долго злоупотреблять вашим вниманием, ибо уже близок к закруглению, бишь, к завершению. Вот тогда-то, господа мои хорошие, и открыл я для себя простую истину, что все вы, даже благодетельствующие на воле, даже облеченные властью и отягощенные богатствами неправедными, вы, отбывающие сроки свои вне лагерей, ничем в сущности не отличаетесь от завшивленных зеков. Больше того, может быть, вы и есть наиболее страшный, изощренный, глубоко законспирированный вид «aviditos», мимикрировавший под обличье нормальных людей? И когда осознал я все это, тогда-то мне и стало по-настоящему страшно… — Боб умолк и покачал головою с видом сокрушенным и потерянным.
— Ну-с, кэп, — позевывая, сказал Колояров, — думается мне, туфта все это. Кажется, он больше по твоей части.
— Увидим, — хмуро обронил Заплечин и обратился к Бобу. — Скажите, Кисоедов, зачем вы взяли себе эту, простите, дурацкую фамилию?
— А чем вам не нравится моя фамилия? — оскорбился Боб.
— Но ведь раньше у вас была другая, нормальная фамилия: Боголюбов.
— Вы считаете эту фамилию нормальной? — Боб ухмыльнулся и запалил еще одну сигаретку. — Ну нет, она мне подходила до тюрьмы, но когда я оттуда вышел… она жгла мне сердце…
— Скажите, когда в вас созрела мысль совершить убийство?
— Когда? — Боб пожал плечами. — Тогда-то, собственно, и созрела. В человечестве испокон веков живет потребность сотворять себе кумиров, то бишь поклоняться сильным личностям. Богам, или, как было у вас, сусально-хрестоматийным героям без страха и упрека, не имевшим ничего общего с человеком, кроме образа своего и чисто внешнего подобия. Я понял, что нашей новой породе людей тоже в скором времени должны будут потребоваться свои, новые боги взамен устаревших. Ну, я и… начал создавать их… — он поглядел на следователей, которые выглядели слегка разочарованными. И пустился в объяснения: — Сами хорошо знаете, что у каждого христианского святого были свои специфические функции, кто от чумы спасал, кто от сглаза, кто от засухи. Мои же боги, то есть, ваши, должны были быть хитрыми, свирепыми, жадными и лживыми, лишенными чести и совести. Я извел на них массу бумаги, холста и краски — и все отправил в печку, ибо этот материал не годился для достойного воплощения моих замыслов. И лишь когда этот жлоб завел меня в свой подвал, когда я увидел эти серые, замшелые, заплесневелые своды, тогда-то и ощутил я себя в истинном аду и стал писать в полный рост Сатану со своими присными. Вы все видели его. Он темен, темнее ночи и так же непроницаем, как ваши души, он столь же подл и безбожен, как ваше прошлое, столь же паскуден и мерзопакостен, как ваше настоящее и столь же тускл и беспросветен, как и ваше будущее…
— Заткните ему пасть, — с досадой бросил Колояров.
Милиционеры двинулись было к Бобу, но тот остановил их жестом.
— Не верите? — спросил он. — Я вам докажу. — И он полез в свои лохмотья и достал из-за пазухи клочок бумаги.
Майор внимательно его изучил. Бумага была промасленная, чувствовалось, что не очень давно в нее была завернута колбаса. Поскольку для завертки продуктов картоном такой толщины пользовалась только косоглазая Варвара, а колбаса в ее магазине была лишь по великим праздникам и то лишь для нужных людей, майор вполне смог бы назвать число, когда колбаса была куплена, ее сорт и даже припомнить вкус. Но главное в бумаге было не это. На ней был нарисован чертик. Изображен он был, надо вам сказать, весьма искусно, с навостренными рожками, с лукаво блестящими глазками и торчком поднятым хвостиком. Казалось, что даже шерстка его, вырисованная весьма тщательно, волосок к волоску, стояла дыбом и даже подрагивала от напряжения. Встретившись с рисунком глазами, Колояров почувствовал, как по лопатками его пробежали неприятные мурашки и передал рисунок капитану.
Заплечин иронически хмыкнул.
— Ну и что ты хотел этим сказать? — осведомился он, щелкнув по бумажке пальцем.
— Осторожнее! — воскликнул Боб, приставая, но было поздно.
Внезапно оживший бесенок вдруг приподнялся с поверхности бумаги, пребольно вцепился в палец капитана, затем проворно вскарабкался по его рукаву. Заплечин так и разинул рот от изумления.
— Перекреститесь! — зашептал ему Боб, но стоило капитану промешкать, как бесенок мигом прошмыгнул между его зубами и скрылся в глотке.
Сделав судорожное глотательное движение кадыком, Заплечин схватился за горло, подержался за грудь, погладил свой живот и неожиданно зевнул.
— Ну, вот что, — сказал он, сыто рыгнув, — с этим гадом пора кончать. Эта контра у меня уже вот где сидит. Так что ты меня, Александр Алексеич, извиняй, но я этого мелкобуржуазного прихвостня должон порешить, причем самолично, как нас тому учил незабываемый «рыцарь революции»… — с этими словами Заплечин извлек из кобуры пистолет, навел на Боба и преспокойно спустил курок. На счастье Семен, стоявший за Бобовой спиной, успел обеими своими скованными наручниками руками ухватить его за шиворот и отдернуть его в сторону, так что пуля прошла в миллиметре от его носа. Тут и майор бросился хватать своего коллегу, так что вторая пуля угодила в висевший на стене портрет Дзержинского. Пока майор и его подчиненные пытались обезоружить Заплечина, тот обнаружил недюжинную изворотливость и, отыскав новую точку приложения своих сил, выпустил оставшиеся пули в «железного Феликса», выкрикивая при этом: «Бей комиссаров! Смерть жидам и коммунистам!» Закончил он свой демарш, высунувшись из окна по пояс, восклицая при этом: «Вся власть Учредительному собранию!»
При этом возгласе испуганно забрехали собаки, мальчишки замерли в немом изумлении, а слонявшиеся в ожидании открытия вино-водочного магазина мужички опешили и с недоумением воззрились на борющихся в окне людей.
Пока майор с Мошкиным связывали обезумевшего капитана. Боб Кисоедов бочком, бочком двинулся к выходу и замер, столкнувшись с твердым, немигающим взглядом сержанта Бессчастного.
— А ты чё тут ошиваисси? — удивился он. — Ноги делай — посодют ведь!
— Пусть содют, — твердо сказал Семен. — Раз взяли, значит, так и надо. У нас без дела не сажают.
* * *
Спустя минут пятнадцать после вышеописанной сцены к отделению милиции подкатил белоснежный «рафик» с красными крестами, из него вылезли два дюжих санитара, которые санитарили по совместительству, а в основное время работали на мыловаренном заводе живодерами. В их помутневших от плохо сдерживаемого интеллекта глазах капитан прочел свою судьбу. Поднявшись, со стоической мукой на лице Заплечин встал в позу Муслима Магомаева и громко запел: «Боже, царя храни! Царствуй на славу…»