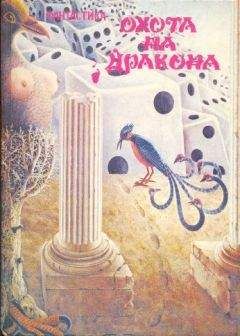Пока майор с Мошкиным связывали обезумевшего капитана. Боб Кисоедов бочком, бочком двинулся к выходу и замер, столкнувшись с твердым, немигающим взглядом сержанта Бессчастного.
— А ты чё тут ошиваисси? — удивился он. — Ноги делай — посодют ведь!
— Пусть содют, — твердо сказал Семен. — Раз взяли, значит, так и надо. У нас без дела не сажают.
* * *
Спустя минут пятнадцать после вышеописанной сцены к отделению милиции подкатил белоснежный «рафик» с красными крестами, из него вылезли два дюжих санитара, которые санитарили по совместительству, а в основное время работали на мыловаренном заводе живодерами. В их помутневших от плохо сдерживаемого интеллекта глазах капитан прочел свою судьбу. Поднявшись, со стоической мукой на лице Заплечин встал в позу Муслима Магомаева и громко запел: «Боже, царя храни! Царствуй на славу…»
Набросившись на него, санитары повалили его на пол и принялись вязать руки. Майору Колоярову стало дурно, он вышел из кабинета и на полусогнутых ногах прошел по коридору. Ему показалось, что рядом, в двух шагах от него идет кто-то. Кто бы это мог быть? Майор торопливо забежал за один поворот коридора, за другой, уперся в тупик и вдруг… почувствовал, что неизвестный стоит рядом, буквально за спиной, он душит ему в затылок. От ужаса не было сил повернуться.
«И не надо, — мысленно успокоил его Некто, — тебе вовсе незачем поворачиваться, ведь в скором времени ты сможешь, не поворачивая головы, видеть сквозь стены. Ты станешь обладателем несметных сокровищ, ты получишь такую должность, которая станет воистину венцом твоей карьеры. Для этого надо…»
— Что? — громко спросил Колояров.
«Тс-с-сс! Не кричи, тебя услышат. Для этого от тебя требуется немного, совсем немного: впусти меня в свое сознание. Позволь мне стать тобой, увидеть твой мир твоими глазами, обрести твою плоть и почувствовать теплоту твоей крови, я так устал быть бесплотным призраком…»
В эту минуту по отделению пронесся истерический, леденящий душу вопль — это доктор Потрошидзе вогнал в пупырчатую, заледеневшую ягодицу Заплечина здоровенный шприц с сульфазином.
«Смотри, это ведь и тебя может ожидать, — вкрадчиво убеждал его голос. — Глядишь, тоже проглотишь какого-нибудь бесенка, осатанеешь и будут из тебя изгонять беса по вашей науке — сульфой да ледяной водой. Со мной же ты не только будешь в безопасности, но и сам сможешь повелевать дьявольскими силами».
— Кто ты? — спросил майор, резко повернувшись. — Где ты? Покажись мне!
Воздух перед ним сгустился, сконцентрировался и собрался в мутную фигуру, смахивающую на тень человека с огромными гипертрофированными бицепсами и толстой, кошачьей физиономией с длиннющими усами. Существо зыркнуло глазами, и перепуганный майор бросился бежать прочь по коридору, заткнув уши руками, дабы не слышать зазвучавшего в голове оглушительно громкого, издевательского хохота…
В камере было грязно. И смрадно. К смраду в общем-то можно было привыкнуть, ибо ничего принципиально нового в том смраде не было, просто устоявшиеся миазмы человеческих выделений, но грязь… Казалось, что ее наносили специально, слоями, старательно покрывая каждый квадратный миллиметр поверхности ржаво-болотной краской. Небрежно побеленный потолок украшала висевшая в оплетке, тоже походившая за заключенную, электрическая лампочка. Не оживляла интерьера и клепанная железная дверь с окошечком. На двухъярусных нарах противно было не только лежать, но и сидеть. В свое время, в первые дни после поступления на работу, инспектируя камеру, Бессчастному почудилось, что лохмотья, служащие заключенным тюфяками и одеялами, шевелятся. Он пригляделся — и с тех пор старался держаться от них подальше. Впрочем, он отчетливо сознавал, что рано или поздно ему придется познакомиться с этой стороной жизни поближе, но не до такой же степени! Для постоянных обитателей камеры, подумалось ему с трепетом, привычных к пропитым и прокуренным мослам пьяниц и бродяг, белое и гладкое, тренированное Семеново тело будет настоящим деликатесом.
В торце камеры небольшое окошечко под потолком веселило глаз лазоревым пледом. По-хозяйски оглядевшись, Семен подошел к окошку, подпрыгнув, ухватился за прутья решетки, подтянулся и выглянул наружу. Сквозь решетку он разглядел брусчатую мостовую площади, на противоположном конце которой высилось здание бывшего графского особняка.
Спустя секунду после того, как их втолкнули в камеру, Боб с кулаками набросился на дверь.
— Потрохи куриные! — смачно ругался он. — Рыбьи морды, песья кровь!.. — потом успокоился и, покосившись на Семена, поинтересовался:
— А ты по какой здеся?
— 102-ю «шьют», — грустно ответил экс-сержант.
— И мне что-то в этом роде, — Боб с сочувствием похлопал его по плечу. — Коллеги мы с тобой, выходит.
— Типун тебе на язык, «коллеги»! — огрызнулся Семен. — Никого я не убивал. Мало ли что на меня повесили?
— Ну нет, я за дело сижу, — возразил Боб. — Все ж-таки убил я, и еще как убил, одного-единственного человека, но и за это достоин казни лютой и муки-мученической! — с надрывом в голосе возопил художник. — Я вот этими руками изничтожил мирового гения, основоположника нового художественного направления — ирреализма, талантливейшего графика и живописца современности, отца шестнадцати детей, причем при этом овдовели десять прекраснейших женщин, альтруиста, эрудита и интеллектуала…
— Да ну? — поразился Семен. — Кого же это?
— Выискался один такой, — флегматично махнул рукой Боб. — И как ты думаешь, сколько мне за это светит?
— Если по 104-й, так до пяти.
— Не-а… — Боб уныло покачал головой. — Не та статья. Мне ближе 102-я. Убийство при отягчающих обстоятельствах, из корыстных или хулиганских побуждений, совершенное с особой жестокостью и способом, опасным для жизни многих людей…
— Тогда от восьми до пятнадцати, — заключил Семен. — «С ссылкой или без таковой». Если только не вышак. Кого ж это ты так?
— Себя, — с тоской в голосе проговорил Боб. — Эх, жизня моя бекова…
— Кончай придуриваться, — бросил ему Семен. — Ляг лучше, поспи.
— Не могу, — отвечал ему Боб. — В грудях жжет. Да и вообще, моей больной организм не может на ночь глядя без микстуры. Так что ты уж не обессудь, я еще тут с тобой чуток пободрствую.
Покопавшись в кармане, он выудил провалившийся под подкладку огрызок карандашного грифеля и легким, размашистым движением принялся делать на стене набросок.
— Не мучайся, — сказал Семен. — Все равно утром мыть заставят.