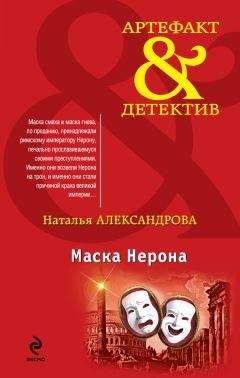– Я поменяю замки и на порог вас больше не пущу!
С этими словами Даша шагнула к свекрови, будто и в самом деле собираясь вытолкать ее из квартиры.
– Я немедленно вызываю милицию! – заверещала Лидия Васильевна, шустро отскочив в сторону. – Это хулиганство, причем не простое, а злостное, и с особым цинизмом!
– Милицию? Вот-вот, милицию обязательно надо вызвать! Вы впустили в квартиру воров и жуликов! Надо разобраться, не сговорились ли вы с ними! За соучастие знаете сколько дают?
– Воров? Тебя что – обворовали? – свекровь делано рассмеялась. – Да что у тебя красть? Что у тебя есть, кроме каких-то старых бумажек да выцветших фотографий каких-то придурков?
– Что-о?! – прохрипела Даша, потому что у нее внезапно отказал голос. – Что ты сказала?!
Дима вскочил, взглянул на Дашу с укором, обхватил мать и увел ее, что-то примирительно бормоча.
А Даша почувствовала себя совершенно обессиленной, ослабевшей, словно она была детским воздушным шариком и из нее кто-то выпустил воздух.
С одной стороны, она наконец высказала свекрови то, что давно копилось в душе, – но это не принесло ей облегчения, а последние слова свекрови причинили ей ужасную боль.
Назвать так ее семью, ее предков…
Сгорбившись, Даша вернулась в свою комнату.
Она хотела навести здесь порядок, ликвидировать следы погрома, но первым делом подняла с пола фотографию деда и застыла, погрузившись в воспоминания…
Сколько она помнила себя, дед всегда был рядом.
Отца Даша не знала, он оставил их с мамой, когда Даша была еще совсем маленькой, но дед не допустил, чтобы в ее жизни образовалась пустота, и заполнил ее без остатка.
Сперва, когда она была еще крошкой, он заходил к ней перед сном, чтобы рассказать сказку – сначала про глупого и умного мышат, про Кота в сапогах, о Красной Шапочке, о Дюймовочке… затем он научил ее читать – научил хитростью: дочитал книжку до самого интересного места, а потом сказал, что у него устали глаза, и тогда Даша стала понемножку читать сама…
Даша росла, но эти вечерние разговоры с дедом по-прежнему были ей необходимы. Только теперь вместо сказок он рассказывал ей историю их семьи, историю их дома.
Это был непростой дом.
Этот дом, выстроенный в годы первых пятилеток в современном лаконичном стиле, одним корпусом выходил на Неву, другим – на площадь Революции, третьим примыкал к Институту мозга. В городе его называли «дворянским гнездом», официально же он именовался домом политкаторжан, поскольку с самого начала был предназначен для выживших русских революционеров, прошедших царские тюрьмы и каторгу, участников трех революций.
В этом доме мирно соседствовали большевики и левые эсеры, анархисты и народовольцы, социал-демократы и даже несколько кадетов. Кто-то из них работал в Институте истории партии, в Историческом архиве, в расположенном поблизости Музее революции, кто-то давно уже вышел на пенсию.
Среди этих старых революционеров, как они сами себя называли – обломков истории, жил и Дашин прадед, отец деда. Он был старый социал-демократ, до революции – известный адвокат, прославившийся как защитник во время громких процессов эсеров-террористов.
Среди этих террористов прадед нашел свою жену, Дашину прабабку – миниатюрную стройную черноглазую женщину, которой грозила виселица за покушение на тамбовского губернатора.
Прабабка к тому времени уже побывала на каторге, где познакомилась со знаменитой эсеркой Марусей Спиридоновой, но на этот раз ей грозила смертная казнь.
От виселицы ее спас будущий муж, а из тюрьмы освободила Февральская революция.
Так и жили в этом доме «обломки истории». Жили до поры до времени, точнее – до тридцать шестого года.
Тогда их начали забирать – сперва по одному, по двое, затем – целыми группами.
А в тридцать восьмом арестовали практически всех, без разбора их партийной принадлежности, – и эсеров, и эсдеков, и случайно затесавшегося в эту компанию кадета, и даже стариков-народовольцев. В огромном доме остались лишь дети, они бродили из квартиры в квартиру, подъедая съестные запасы.
И еще – каким-то чудом – остался на свободе Дашин прадед.
Собственно, большой вопрос – было ли это чудо или удивительная предусмотрительность пожилого человека?
Еще в тридцать четвертом году, после смерти жены, у прадеда начались «странности». Он забывал, как его зовут, и объявлял себя то императором Франции Наполеоном Бонапартом, то путешественником Лемюэлем Гулливером, то еще кем-нибудь из исторических личностей или литературных персонажей.
Особенных хлопот близким он не доставлял, только в те дни, когда считал себя Наполеоном, требовал, чтобы ему отдавали императорские почести, а когда становился Гулливером, ходил по квартире очень осторожно и умолял, чтобы все держались от него подальше, а то он ненароком может наступить и раздавить кого-нибудь.
Прадеда осмотрел знаменитый врач-психиатр Дурново́ – между прочим, его старинный знакомый, – и сказал, что пациент вполне безопасен и может находиться в домашней обстановке.
Хотя, добавил он, по нынешним временам в сумасшедшем доме, может быть, и спокойнее.
Когда же большинство обитателей дома уже арестовали и пришли за прадедом, он сидел на полу в меховой шапке и строгал доску столовым ножом. На вопрос главного чекиста, кто он такой и что это он делает, прадед сообщил, что он – Робинзон Крузо, моряк из Йорка, что он уже десятый год находится на необитаемом острове и в данный момент вырезает лодку, чтобы с этого острова уплыть, потому что жить здесь дальше не представляется возможным – на острове развелось слишком много обезьян, которые своими криками мешают ему спать.
Чекист подумал-подумал – и оставил прадеда в покое, решив, что следствию от него никакого толку не будет, а хлопот с ненормальным не оберешься.
Так прадед, один из всех жильцов знаменитого дома, остался на свободе.
Сыну его, то есть Дашиному деду, было в то время пятнадцать лет.
К началу войны он успел закончить школу и поступить на филологический факультет университета. Как только началась война, он записался добровольцем в армию. Почти все его однокашники погибли в первые же месяцы войны, но деду повезло: он знал несколько языков, в том числе – редкий норвежский, а боевые действия шли повсюду, в том числе, и на Севере, на границе с Норвегией. И деда отправили в разведотдел Карельского фронта. Там он писал тексты листовок, которые разбрасывали с самолетов над позициями противника, допрашивал пленных и переводил перехваченные радиограммы.
Там, на границе с Норвегией, и провел дед всю войну.
Вернувшись, он застал своего отца живым. Старик как-то прожил всю блокаду, понемногу сжигая в буржуйке мебель и книги. Сумасшествие его к тому времени прошло, должно быть, от голода, но чекисты о нем, к счастью, так и не вспомнили.