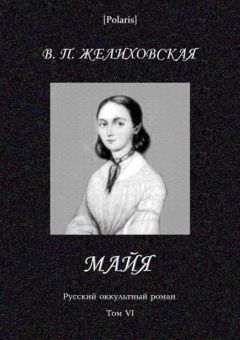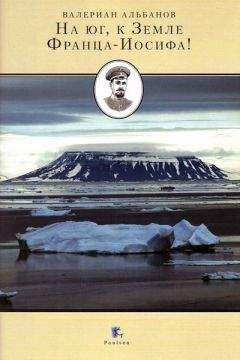Вспоминать он мог только до роковой для него минуты, когда Христос остановился у его порога; когда его жестокое слово, в порыве гордыни обращенное на Спасителя мира, рушилось на его собственную голову; когда, в ответ на оскорбление, он увидел безмолвный упрек, безмолвное горе о нем самом в кротком взгляде Иисуса, омраченном кровью, струившеюся из-под тернового венца; когда он понял всю глубину, весь ужас своего непоправимого преступления, и — побежал!.. Побежал, не оглядываясь на дом свой, на стены родного города, на родные горы и долы; и долго, долго бежал с ужасом и отчаянием в сердце, гонимый призраками ада, пока не свалился без сил, без памяти… Но не для отдыха, не для успокоения: их для него в природе уже не было! Едва опомнившись, он вскочил снова, чувствуя не землю, а лютый огонь под ногами, и снова побежал. И так опять, и опять, и всегда, — поныне и до века, и во веки веков, без отдыха, без срока!
С того дня протекли столетия, и столетия он носил в истерзанной душе своей тот образ, который явился ныне перед ним. Он вызван не языческим кудесником, не губительными силами черной магии, — нет! Он вызван, по мольбе его, христианином, мудрецом, глубоко верующим в Того, Кого он, всеми отверженный ныне, отверг тогда; над Чьим страданием насмеялся, не чая, что не во гневе Агнца, подъявшего грехи человечества, а в Его всепрощающем взгляде найдет свою казнь.
Ныне он чаял Его милости. Одного из Его слуг, коими переполнился мир, он пришел умолять снять с измученной души его гнет сомнения: дать узреть ему, что сталось с его, против воли брошенной им, невестой?.. Как окончила она свою печальную жизнь?..
Желание его было исполнено.
Вот перед ним три креста на Голгофе, которых он тогда не видел; вот святые женщины, три Марии, возвращаются домой в великой скорби своей, не замечая ничего и никого, не замечая разрушений землетрясения, сопровождавшего смерть Распятого, не замечая за ними следовавших любопытных, доброжелателей и врагов. Вечный странник жадно следил за ними и с изумлением видел, что в тот вечер опечаленных друзей шло за святыми женщинами более, нежели злорадствовало на пути их врагов. Он искал во множестве народа Ревекку, но не находил ее…
Но вот Пресвятая Матерь Иисуса, опираясь на руку Иоанна, названного сына Своего, приблизилась к Своему бедному жилищу. Многие явные и тайные приверженцы Ее Сына встретили Ее, выбегая к Ней, не скрывая рыданий или робко выглядывая из-за углов, пряча слезы свои «страха ради Иудеев»…
Между первыми, явно сочувствовавшими Ее великому горю, выделилась стройная женская фигура, поджидавшая Богоматерь у порога Ее дома. Когда Она была уже близко, девушка страстным движением открыла лицо свое, орошенное слезами, и повалилась на землю, обнимая ноги Богородицы, как бы моля Ее прощения и помощи, а Она, воззрев к небу, опустила руки ей на голову…
Пораженный Агасфер побледнел еще сильнее. Так вот что было потом!.. Ну, — а далее?.. Что же далее?!..
И, послушное его желаниям, зеркало отразило другую картину.
Не бедные кварталы Иерусалима, а величественные здания другого, роскошного, мирового, вечного города появились на туманном занавесе. Он тотчас узнал Рим и, в течение нескольких мгновений, показавшихся ему бесконечно долгими, проследил кровавую трагедию, свершившуюся почти пятнадцать веков назад над дочерью Эбена Эзры и многими ее товарищами по вере. Он отыскал ее сначала в тех темных подземельях, где ютились гонимые язычниками, — по-видимому, презренные и несчастные, но, в сущности, великие и блаженные — последователи учения Христова. Он проследил все страшные перипетии ее заключения в темнице; потом ее шествие в Колизей, в среде многих других жертв, обреченных на гибель в потеху кровожадной толпы. В ту минуту, полную смертельного ужаса, когда выпущенные на арену дикие звери прянули на толпу мучеников-христиан, когда разъяренная голодом тигрица бросила на землю его Ревекку, — несчастный, забыв, что перед ним не самое событие, а его тень, с громким криком бросился к страшному видению…
Вмиг все померкло, — все исчезло!
Со стоном, шатаясь и дрожа, вечный странник на секунду беспомощно опустил голову и руки, в то время как Корнелий Агриппа, потрясенный до глубины души вызванной им из мрака древности драмой, спешил закрыть свое волшебное зеркало и широко растворить временно запертую им дверь в сад.
Дым и чад, вызванные волхованиями, рассеялись. Свежесть и благоухание весенней ночи снова проникли в покой; снова в него ворвались тихий лепет листвы, успокоительный, мерный шум морских волн, разбивавшихся о берег; снова упали в него с небесных высот лучи игравших на них звезд.
Агасфер поднял голову. По застывшему лицу его струились слезы.
— Благодарю тебя, великий христианский мудрец! — сказал он. — Ты облегчил мое великое горе, сняв с моей души гнет неизвестности и дав мне несколько блаженных мгновений свиданья… Благодарю тебя!.. Чем вознаградить мне тебя?.. Не примешь ли ты от меня эти несколько ненужных мне драгоценностей, поднятых мной по пути моих бесконечных странствий?
Говоря это, посетитель Агриппы протянул ему кошелек, в котором блистали дорогие каменья.
Но ученый отрицательно покачал головой.
— Нет, бедный друг мой, мне не нужны сокровища земные! — сказал он. — Один твой взор на эти небеса с мольбою о прощении к Тому, в Ком были тобой оскорблены страдания всего человечества, — для меня лучшее и самое желанное вознаграждение.
— Аминь! — еле слышно прошептал Агасфер. — Прощай!.. Да воздаст тебе Бог Саваоф за добро и привет, оказанные бесприютному осужденному.
И, медленно повернувшись и поникнув головой, вечный странник вышел и скрылся во мгле торжественной пасхальной ночи милосердия и всепрощения.
Из стран полярных.
(Святочное происшествие)
Ровно год тому назад довольно большое общество собралось провести зимние праздники в деревенском доме, вернее — в старом замке богатого землевладельца в Финляндии. Этот дом или замок был редким остатком капитальных, старинных построек наших прадедов, заботившихся о благосостоянии своих потомков более, чем мы, грешные; да, поистине сказать, имевших на то более достатков и более времени, чем наше разоренное, вечно спешащее поколение…
В замке было много остатков древней роскоши и праотцовского гостеприимства. Мало этого, были замашки средневековых обычаев, основанных на традициях, на суевериях народных, наполовину финских, наполовину русских, занесенных русскими хозяйками, их родством, их многочисленным знакомством с берегов Невы. Готовились и елки, и гаданья, и тройки, и танцы, — всякие общеевропейские и местные и даже чисто всероссийские вспомогательные средства для увеселения праздного, избалованного общества, которое предпочло, на этот раз, «лесную, занесенную снегами трущобу», — как называл свои владенья хозяин дома, — праздничным городским увеселениям. В старом доме имелись и почерневшие от времени портреты «рыцарей и дам» — именитых предков, и необитаемые вышки с готическими окнами, и таинственные аллеи, и темные подвалы, которые легко было переименовать в «подземные ходы», в «мрачные темницы» и населить их привидениями, тенями отшедших героев местных легенд. Вообще, старый дом представлял многое множество удобств для романических ужасов; но в этот раз всем этим прелестям суждено было пропасть втуне, не сослужив службы читателям; они в настоящем рассказе не играют прямой роли, как могли бы играть в святочном происшествии.