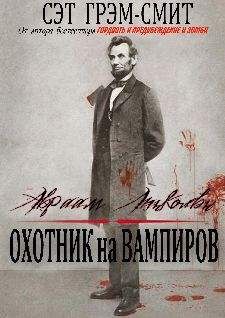xxxxxxx
По обе стороны в вопросе рабства не наблюдалось нехватки в энергичности, и даже жестокости. Обозленный избиением Чарльза Самнера, радикальный аболиционист Джон Браун напал на поселения у Потаватоми-Крик, на Канзасской территории. Ночью 24 мая 1856-го (через два дня после случая с Самнером), Браун и его люди прошлись по пяти поселениям, убивая всех мужчин, в лучшем случае, ударом сабли или выстрелом из пистолета. Это было первым эпизодом в целой серии ответных мер, впоследствии получивших название Кровавый Канзас. Резня продолжалась три года и унесла около пятидесяти жизней.
6 марта 1857-го Верховный Суд подтолкнул страну еще ближе к краю.
В течение десяти лет Дред Скотт, шестидесятилетний раб, отстаивал свое право на свободу. С 1832-го по 1842-й год, вместе со своим хозяином (майором Армии США Джоном Эмерсоном) он прожил на свободных северных территориях в качестве личного камердинера. В это время он успел жениться и обзавестись ребенком (и жена и ребенок считались свободными), после чего, по смерти майора, в 1843-м году, попытался выкупить свободу. Но со стороны вдовы майора последовал отказ, она продолжала использовать его как раба и присвоила деньги. По совету друзей-аболиционистов, в 1846-м году Скотт подал иск для признания его свободным человеком на том основании, что он перестал быть собственностью в момент, когда его нога ступила на территорию, свободную от рабства. Дело рассматривалось во множестве судов, с каждым годом привлекая все больше внимания общественности, пока, в 1857-м, не оказалось в Вашингтоне.
В решении Верховного Суда номер 7–2, учитывая, что Отцы Основатели считали негров существами низшего порядка, не имеющими отношения к белой расе, для которой и была написана Конституция, было принято в иске Скотту отказать. Негры не могут быть гражданами Соединенных Штатов, а, значит, в принципе не могут выставлять свои требования в федеральном суде. У них было не больше прав затевать юридический процесс, чем у плуга, которым они пашут.
Обескураживающий результат для Скотта сделал его давнюю мечту о свободе окончательно недостижимой. При объявлении решения Верховный суд постановил:
— Конгресс превысил свои полномочия, запретив рабство на определенных территориях, а сами территории не имеют права запрещать рабство даже в пределах собственных границ;
— Рабы и их потомки (в независимости от того, свободны они, или нет), не попадают под защиту Конституции и никогда не могут считаться гражданами Соединенных Штатов;
— Беглые рабы, достигшие свободной земли, по-прежнему считались собственностью своих хозяев.
Сразу за оглашением решения по Дреду Скотту, «Вечерний Вестник Олбани» обвинил Верховный Суд, Сенат и вновь избранного президента Джеймса Бьюкенена в тайном сговоре по дальнейшему распространению рабства, в то время, как «Нью-Йорк Трибьюн» вывела на передовицу статью, вселившую благородную ярость во всех северян:
Теперь, где бы не колыхался звездно-полосатый флаг, он защищает рабство и представляет рабство… Таковы плоды нашей истории. Теперь все государственные служащие, герои, проливавшие кровь, жизни и труды наших предков, разработки ученых и молитвы добрых людей — теперь мы знаем, чего это на самом деле стоило! Теперь Америка — страна рабов и рабовладельцев!
Южные демократы не скрывали радости и самодовольно заявляли, что не за горами «аукционы на Бостонской Набережной». Отношения между плантаторами и аболиционистами еще никогда не были так накалены. Америку стало разрывать на куски.
И только несколько американцев знали, насколько страшна истинная опасность.
III
3 июня 1857 Эйб получил письмо, написанное знакомым подчерком. Оно не содержало вежливых вопросов о здоровье и пожеланий счастья, как и приветов семье.
Авраам.
Умоляю простить, что не писал тебе уже пять лет. Также ты должен простить мне резкость слога, поскольку повод, по которому я пишу, не терпит отлагательств и требует моего скорейшего участия.
Я вынужден просить тебя еще раз пожертвовать собой, Авраам. Я понимаю, насколько самонадеянно просить тебя о чем-либо, учитывая все твои прошлые лишения, а также, насколько не очень заманчиво дело, ради которого я вынужден оторвать тебя от семейного уюта. Поверь, я не обратился бы к тебе, если бы ситуация не была такой пугающей, если бы хоть еще один человек мог сделать то, о чем я попрошу.
Я хочу, чтобы ты проникся необходимостью и смог в кратчайшие сроки прибыть в Нью-Йорк. Если ты согласишься, умоляю оказаться там не позднее 1 августа. Дальнейшие указания ты получишь по прибытии. Однако, в случае отказа, я больше никогда не побеспокою тебя. Я обратился к тебе, потому что в письме, содержащем твой отказ о дальнейшем сотрудничестве, ты допустил, что можешь вернуться в дело, когда появится возможность в корне поменять стратегию. Если твое мнение не изменилось, я с нетерпением жду нашей встречи, старый друг — и в придачу, ты получишь то самое объяснение, которое, без сомнения, заслуживаешь.
Время не ждет, Авраам.
Всегда твой,
Г.
К письму прилагалось расписание поездов и пароходов, пятьсот долларов и название пансиона в Нью-Йорке, где уже был забронирован номер на имя А. Ратледжа.
Каждое слово [в письме] продумано! Генри, в самом деле, поступил умно — отметил, что дело не очень заманчиво, однако, каждое слово тянуло отправиться в путь: и самоосуждение, и лесть, и, наконец, обещанное объяснение, даже имя, на которое забронирован номер! Он прекрасно понимал, что я оставлю и дела, и семью, и проеду тысячу миль, только чтобы увидеть ее, действительную цель.
Я не могу отказаться.
Генри прав. Время не ждет. Но чего именно не ждет — не знаю. Все, что я делал в той жизни… страдание, задания, смерть… все это было ради чего-то большего. Я чувствовал это, еще ребенком — чувствовал, что мой путь, словно путь по реке, и я не могу сойти с корабля. Уносимый течением… окруженный с обеих сторон диким лесом… но уверенный, что где-то там, далеко, по течению, она ждет меня. Я никому не говорил об этом чувстве, из страха, что все мои надежды напрасны (или, что еще хуже, ведут не туда — всякий молодой человек считает свое грядущее величие закономерным для истории мира, мира, принадлежащего наполеонам). И вот, теперь она появилась, в самых призрачных очертаниях, такая, что я пока не мог ничего сказать о ней. И если меня отделяет от нее какая-то тысяча миль, да будет так. Бывало, я ходил гораздо дальше ради более ничтожных дел!