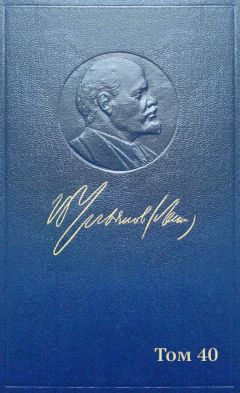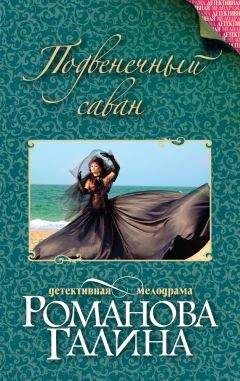Он сразу понял, что это спальня. Там царила полутьма, но он разглядел маленькую кровать, покрытую дорогой парчой, и фигурку на ней, словно вытравленную тенями.
Чиндамани низко поклонилась, затем выпрямилась, и, приложив палец к губам, скользнула внутрь. Кристофер последовал за ней.
Казалось, словно Дорже-Ла и вся эта огромная пустыня из снега и льда, окружавшая монастырь, куда-то исчезли. Кристоферу показалось, что он снова в Карфаксе, в спальне сына, полной книг и игрушек, и смотрит на спящего мальчика. А весь случившийся с ними кошмар привиделся Кристоферу во сне. Это он спал и не мог проснуться, как бы ни пытался.
Он осторожно приблизился к Уильяму. Волосы мальчика свесились набок, прикрыв один глаз. Кристофер аккуратно поправил волосы, коснувшись лба сына. Мальчик зашевелился и забормотал во сне. Чиндамани взяла его за руку, боясь, что он может разбудить ребенка. Кристофер ощутил, что глаза его наполняются горячими слезами. Ему хотелось поднять Уильяма с кровати, прижать к себе, сказать ему, что все в порядке, что он заберет его отсюда. Но Чиндамани потянула его из комнаты.
Прошло много времени, прежде чем Кристофер обрел дар речи. Чиндамани покорно ждала, наблюдая за ним. Судьбой ей было уготовано никогда не иметь детей, но она отчасти могла понять то, что он чувствует.
— Извини, — сказал он наконец.
— Не надо извиняться, — отозвалась она. — Когда придет время, ты сможешь с ним поговорить. Но пока будет лучше, если он не будет знать, что ты здесь.
— Ты сказала, что покажешь мне еще кого-то. Того, кому угрожает опасность, исходящая от Замятина.
— Да. Мы как раз направляемся к нему.
— Замятин пришел сюда в поисках чего-то. Когда я был с... — Кристофер замялся, — со своим отцом, он сказал, что заключил сделку с Замятиным: мой сын в обмен на то, что он искал. Этот человек имеет какое-то отношение к этому?
Чиндамани кивнула.
— Да, — ответила она. — Замятин пришел сюда в поисках его. Я хотела, чтобы ты помог мне спрятать его от Замятина.
Она подошла к другой двери. Еще одна тускло освещенная комната, еще одна кровать, покрытая роскошными тканями. В кровати спал ребенок, волосы его были взъерошены, веки крепко сомкнуты, одна рука свободно лежала на подушке, словно собираясь схватить сон, или, наоборот, отбросить его в сторону.
— Вот, — прошептала она. — Вот кого искал Замятин. Вот кто привел тебя сюда.
Мальчик? Мальчик, укутанный тенями? И все?
— Кто он? — спросил Кристофер.
— Кем ты хочешь, чтобы он был? — спросила в ответ Чиндамани. — Королем? А может, следующим императором Китая? Уцелевшим сыном убитого царя? Видишь, я кое-что знаю о твоем мире.
— Я не могу ответить на твой вопрос, — заметил он. — Он может быть кем угодно. Я не ожидал увидеть ч ребенка.
А что он ожидал увидеть? И ожидал ли вообще?
— Он просто маленький мальчик, — спокойно, но с чувством ответила Чиндамани. — Это все. Это все, чем он хочет быть. — Она замолчала. — Но в данном вопросе у него нет права слова. Он не может быть тем, кем хочет, потому что другие люди хотят, чтобы он был кем-то другим. Ты понимаешь?
— И кто же он, по их мнению?
Чиндамани посмотрела на спящего ребенка и перевела взгляд на Кристофера.
— Майдари Будда, — ответила она. — Девятый Будда Урги. И последний.
— Я не понимаю.
Она мягко и грустно покачала головой.
— Да, — подтвердила она, — ты не понимаешь. — Она сделала паузу и снова посмотрела на мальчика. — Он законный правитель Монголии, — прошептала она. — Он ключ к континенту. Теперь ты меня понимаешь?
Кристофер посмотрел на мальчика. Значит, вот в чем было дело. Замятин искал ключ, чтобы открыть им сокровищницу Азии. Живого бога, который сделал бы его самым влиятельным человеком на Востоке.
— Да, — медленно сказал он. — Да, я думаю, что начинаю понимать.
Она посмотрела на него.
— Нет, — сказала она. — Ты ничего не понимаешь. Вообще ничего.
Они оставили спящих детей и снова вышли в ночь, чтобы вернуться в основное здание по мосту. Монастырь все еще крепко спал, но Чиндамани настояла, чтобы они соблюдали полную тишину, пока не окажутся в комнате Кристофера.
Она оставалась с ним до рассвета. Поначалу, несмотря на ее присутствие, он был погружен в себя, потому что встреча с Уильямом привела его в глубокое уныние. Она приготовила чай на маленькой жаровне, стоявшей в углу комнаты. Это был китайский чай, бледный ву-лунг, в котором неподвижно застыли белые цветки жасмина, напоминая лилии на душистом озере. Когда чай был готов, она аккуратно налила его в две маленькие фарфоровые чашки, стоявшие рядом на низком столике. Чашки были тонкими, как бумага, и нежно-голубыми, напоминая яичную скорлупу. Сквозь изысканную глазурь, покрывавшую чашку, Кристофер видел чай, казавшийся золотым в мягком свете.
— Китайцы называют их т'от'ай,— сказала Чиндамани, коснувшись кончиком пальца края чашки. — Они особые, очень редкие. Эти две чашки были частью подарка одному из настоятелей от императора Кангцзы. Им более двухсот лет.
Она поднесла чашку к свету, наблюдая, как мерцают огни в янтарной жидкости. В первый раз Кристоферу представилась возможность как следует рассмотреть ее. Ее кожа напоминала тот самый фарфор, который она держала в руках — такая же гладкая и нежная. Она была миниатюрной, наверное, чуть выше метра пятидесяти сантиметров, и каждая часть ее тела гармонично сочеталась с этой миниатюрностью. Когда она двигалась — наливая чай, поднося к губам хрупкую чашку или отбрасывая прядь упавших на глаза волос, — она делала это с таким бесконечным изяществом, какого ему еще не доводилось видеть в женщинах. Ее грациозность была не приобретенной, не напускной — она двигалась с естественной легкостью, в основе которой была полная гармония между ее телом и миром, в котором она обитала. Он чувствовал, что она легко может пройти по поверхности воды и пересечь весенний луг, не смяв ни одной травинки. И он испытывал грусть, потому что такое совершенство не было предназначено для его неловких объятий.
Они молча пили чай, следя за тем, как тают и снова обретают форму поселившиеся на стенах тени. Он погрузился в свои мысли и был в сотнях километров отсюда, как человек, пытающийся на плоту пересечь открытое море и не знающий, где лежит берег и существует ли берег вообще. Она не смотрела на него, не пыталась прервать его молчание или выманить его из мира боли. Но когда он время от времени поднимал глаза, она все еще была там, и лицо ее было полузакрыто тенью.
Наконец он начал говорить, перемежая обрывки фраз длинными и мучительными паузами. Чай остыл, лепестки жасмина съежились и опустились на дно, и ветер пел в горах, как потерянная душа. В том, что он говорил, не было ни системы, ни порядка: мысли просто периодически выливались из него, а за ними следовала куда более продолжительная тишина. То он рассказывал о своем детстве в Индии, то о тете Табите и длинных летних месяцах в Карфаксе, летних месяцах, которые, казалось ему когда-то, никогда не кончатся. Или он рассказывал о людях, которых убил, людях, которых предал, о женщине, которую предал давным-давно холодным днем в самом разгаре зимы. Он рассказал ей о смерти Кормака и как видение ее преследовало его, о бессмысленном жужжании мух, не покидающем его мысли; о девушке из приюта, обнаженной и преданной; о Лхатене, убитом, как корова на бойне, на засыпанном толстым слоем снега поле.