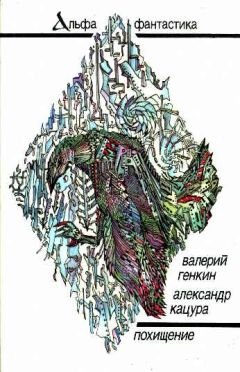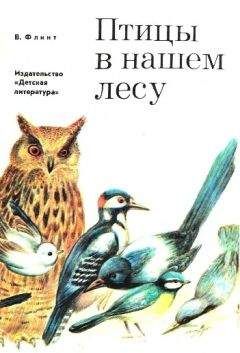— Вадим, сука! — выл он. — Чтоб я еще раз к тебе в гости пришел!
— Ну, что ты хочешь, Валера? — бормотал Нестеров, потирая лоб. — Она сирота.
— Да ну тебя! — сказал Баринов, чуть не плача. — Она меня за палец тяпнула! Сука!
Не дождавшись семилетия Инны, Нестеров отправил ее в престижную школу-интернат. Вскоре Нестерова засыпали телефонными звонками — жалобами на Инну.
Девочка никак не хотела превращаться в маленькую принцессу, достойную фамилии. У нее были уличные манеры. Она часто сбегала по ночам или во время занятий. Пока ее сверстницы обучались танцам, этикету и оксфордскому диалекту, Инна сближалась с детьми из бедных районов. От них Инна набралась характерных словечек. Воспитатели с ног сбивались, разыскивая ее по глухим подворотням. Инна сама возвращалась под вечер, в испачканном платьице, с царапинами на коленках и синяком под глазом.
С одногруппниками она не желала общаться. Они были ей чужды, как посланцы иного мира. Эти дети не знали ни горя, ни страха, ни голода. Подражая взрослым, они обсуждали деньги, налоги, яхты. Сверстники презирали ее и дразнили «подкидышем». Инна жестоко наказывала обидчиков.
К третьему классу девочка подошла со средней успеваемостью. Отличные оценки только по литературе, рисованию и кулинарии. Дальше училась все хуже.
В десять она закурила, в одиннадцать выпила, в двенадцать загуляла. Вадим от злости и отчаяния чуть на стенку не лез. Ночами ворочался в постели.
«Чего ей еще надо? Все у нее есть. Тряпки, побрякушки, курорты — пожалуйста. Сколько возможностей! Весь мир перед ней. Да любая девка с улицы жизнь продаст, чтобы оказаться на месте этой идиотки. Дрянь неблагодарная!»
Ссорились они по сто раз на дню. Иногда дело доходило до поножовщины. Из-за пятен крови ковер в гостиной часто меняли. Но Инна была неспособна сбежать из дома, как ее мать.
В детстве она часто бродила в одиночестве по берегу озера или в лесу, и все мечтала о принце, который приплывет на корабле под алыми парусами. И увезет ее далеко-далеко. Ребенок, не знающий родительской любви, взрослеет очень рано. Это жестокое взросление, которое искажает душу. Такой ребенок рано начинает мечтать о возлюбленном, который обласкает его. Сирота всю жизнь будет искать в любовнике отца или мать. Нужно ли говорить, что эта жажда никогда не будет утолена. В любви никто не способен всю жизнь нянчить другого.
В двенадцать лет Инна почти забыла своего Принца-отца. Более того — любая мысль о нем вызывала в ней отвращение и ужас.
Под конец рассказа речь Анны Павловны стала совсем бессвязной. Она уронила голову на грудь.
Павел тихо встал. Взял портфель, и на цыпочках вышел.
Павел шагал, спотыкаясь о неровности асфальта. Все время приходилось обходить огромные лужи.
Небо потемнело. Серебристый диск луны сиял из прорехи в скоплении облаков, как из глубокого колодца.
Над разбитой дорогой низко стелился подсвеченный сиянием фонарей туман. Ноги вязли по щиколотку, словно идешь по толстому слою мокрой ваты.
Дом Иры старый, перекошенный, неприятного серого цвета. Одно окно тускло светится, как единственный глаз на лице старика. В крайнем правом окне разбито стекло. Камень.
Павел скривился.
Свернул на тропинку к воротам. Почувствовал спиной взгляд. В освещенном окне дома напротив мелькнуло лицо женщины. Когда он обернулся, любопытная соседка тут же юркнула за занавеску.
Павел просунул руку в щель между стеной дома и забором. Пальцы нащупали холодное железное кольцо. Он потянул на себя засов. Тот поддался с тяжким скрежетом.
Над крыльцом зажглась лампочка. Павел зажмурил глаза. Открыл и увидел Иру. Девушка показалась ему бесплотным призраком в застиранном халате.
— Привет.
— Привет, — Ира скрылась в коридоре. Павел взошел по скрипучим ступенькам. В доме пахло табаком и тухлой капустой.
Прошел в душную кухню. Колченогий стул под ним со скрипом пошатнулся. Портфель он сунул под стул.
На плите кипела в грязной кастрюльке мутная вода. Под потолком на веревках висели влажные тряпки.
— Как я выгляжу? — Ира протиснулась к плите.
Некогда сильные волосы с золотым отливом — теперь тусклые, стянутые на затылке в тугой пучок. Под глазами темные круги.
Взгляд Павла скользнул вниз. Руки огрубели, ногти черные от грязи.
Ей было шестнадцать лет.
— Прекрасно, — сказал он.
— Картошку будешь?
Павел покачал головой.
Ира села за стол. Начала очищать дымящуюся картофелину.
— Осторожно, — сказал Павел. — Руки не обожги.
За тонкой стенкой заплакал ребенок. Ира вздрогнула.
— О господи. Я сейчас.
— Ну что ты, что ты. — донеслось из-за стенки. — Чего мы расплакались? Ш-ш-ш…
Ира вернулась, потирая лоб. Встретила взгляд Павла. Устало улыбнулась.
— У него температура.
Села за стол. Взяла картофелину.
— Остыло, — пробормотала она.
— Все будет хорошо.
Ира взглянула на Павла. В ее глазах затаилась старая злоба, которая пугала Павла, хотя к нему не относилась.
— Ты не представляешь, каково было в роддоме. Гадюшник, одно слово! Они все время пялились на меня.
— Кто, Ира?
— Мамаши. Врачи. Медсестры. Все. Я вижу их везде — в магазине, в автобусе, в соседских окнах. Они повсюду.
— Понимаю.
— Нет, не понимаешь! Каково было слышать их тупое квохтанье: «На каком вы месяце? А кто папаша?» — передразнила Ира. — Но еще больше меня бесили те, кто все понял. Одна такая все смотрела на меня, будто я ноги лишилась. Приставала, совала фрукты. Ты знаешь — бабы вечно суются со своей заботой, когда их никто не просит. Я пряталась от нее в сортире.
— Скверно.
— Да, в общем, ничего. Только когда мужики к ним приходили, было худо. У меня-то никого.
— Я пришел один раз, — напомнил Павел.
— Да, — Ира с благодарностью взглянула на него. — Когда ты ушел, соседки по палате про тебя спрашивали.
Ира отвела взгляд. Рассмеялась.
— Я сдрейфила. Сказала, ты мой муж.
Они сидели, натянуто улыбаясь. Ира съела одну картофелину. Отодвинула блюдо.
— В зале дует, — сказала она.
— Окно разбито.
— Знаю. Камень бросили.
— Да? Как странно!
— Нужно вставить новое. Или заделать чем-нибудь.
Павел потер рукой лоб.
— Я не умею стекла вставлять.
— Я соседа попрошу. Он давно на меня облизывается.
— Неплохой повод.
— Не смейся.
— Извини.
— Ненавижу мужиков. Вы все такие идиоты.
Она наклонилась, пристально глядя на Павла.