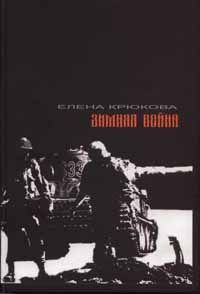– Ты знаешь про царевича Дмитрия?.. – Перед глазами отца Иакинфа встало мертвое, окровавленное круглое личико другого Царевича, лежащего рядом с расстрелянными Сестрами и Родителями на зеленом, коркой подмерзшем насте, насквозь прошитом петлями и швами сухой летошней травы. – Ты знаешь из истории?..
– Я ничего не знаю, поп!.. Мне неоткуда знать. Я простая девчонка. Я слыхала, что был давно царь Борис, убил царевичка Дмитрия, по глотке ножом полоснул…
– Я возьму тебя с собой на Муксалму, рыбу подо льдом ловить, – жестко сказал отец Иакинф. – Хорошо, что тебя перебросили сюда, на Анзер. Это счастье. Ты встретилась со мной.
Он ожег ее глазами.
Она закрыла лицо рукой.
– Когда плывем на Муксалму?.. батюшка… – спросила еле слышно.
Снаряжены лодки, изготовлены сети. Чугунными пешнями прорубается лед-заберег, а лодки плывут по вольной воде, по темной морской воде. Белый, сахарный лед и черная дегтярная вода обнимают лодки, сало с шорохом промелькивает мимо бортов. О рыба, рыба, ты еда людская. Счастье на Островах в рыболовецкой артели ловить рыбу. Счастье – работать в сетевязочной мастерской, плести сети, вить толстые корабельные канаты. На одном таком канате хотела повеситься Стаська. Я ей не дала. А как на меня взирает чернобородый поп, искры из глаз у него мечутся. И поп тоже человек. Я его голосом прельстила. Или еще чем. Да ведь я ни кожи ни рожи. Кости одни. Да волосенки белые, яркие, на приморском ледяном Солнце выгорели.
– Люська!.. Спой песню про тундру!.. Про побег на волю!..
– Рыбу расшугаю…
Ей было холодно, она дрожала, засовывала ручонки под мышки, под штопанный на локтях тулупчик. Чтобы согреться, затянула:
– Это было весною, зеленеющим маем!.. когда тундра наденет свой зеленый наряд… Мы бежали с тобою, уходя-а от погони… чтобы нас не настигнул пис-то-ле-та заряд…
И вся рыбачья артель, вздрогнув общим людским, рваным и голодным, многоглазым телом, подхватила, грянула, и плоские рыбьи хвосты весел, подняв черные соленые брызги, ударили по воде:
– По тундре, по широкой по дороге, где мчится поезд… Воркута – Магадан!..
Люська отерла с лица соль мелких брызг, широко улыбнулась священнику с черной, крутящейся по ветру бородой, с горящими безумьем глазами.
– Тяни сеть, поп, тащи!.. Там уже рыбы хоть опой ешь… хлынет через край!..
Иакинф поднялся на корме во весь рост, глянул в черную воду, сплюнул, взялся за край сети:
– Тащи, ребята… с Богом!..
Мужики с деревянными, остроугольными скулами, с глубоко сидящими в еловых, сосновых стесанных плашках черепов тлеющими слепыми головнями, напружинили бугристые клешни рук, вздули жилы и мышцы, стали тянуть. Когда в сети показалась первая серебряная рыба, отчаянно бьющаяся, мотающая хвостом, рвущая мордой переплетенья грубых нитей, Люська закричала с лодки:
– А!.. А!.. Попалась!.. И тебя изловили!.. И тебя убьют, сперва багром по башке, потом зажарят!.. На масленой сковороде, на углях… в золе…
Отец Иакинф испепеляюще глянул на нее, орущую. Она согнулась, уткнула лицо в ладони. Спина ее содрогалась. Рыбаки продолжали тянуть сеть. С моря наползал туман. Белесая жемчужина Солнца тонула в уксусе густых мрачных туч. Люська вскинула зареванное лицо, вцепилась когтисто в сеть, потащила ее на себя, помогая рыбарям. Обернув мокрое, красное на холоду лицо к Иакинфу, прокричала:
– И что?!.. Добыли пропитанье?.. На все пятнадцать каторжных рот?!.. Полную лодку белорыбицы?!.. Хоть одну укради, святой отец… для меня!..
– Украду, – отчеканил он тихо, как припечатал. – Я испеку ее для тебя в золе. Жаль, голубка, сотового меду у меня нет для тебя.
Лов завершился. Свечерело быстро. Монахи выволокли лодку на берег. Иакинф и Люська разожгли костер. Снег протаял под пламенем до земли, до плоских береговых камней. Отец Иакинф закопал рыбу под горячие камни, в золу. Огонь плясал в белых руках снега, цвел смертным оранжевым цветком. Люськино лицо румянилось, вспыхивало вишневым светом, таинственно радовалось, переливалось то горем, то счастьем и чудом. Слеза скатилась у нее по щеке. Она безотрывно глядела в огонь. Боже, совсем девчонка еще. Что с нею станет.
Иакинф вытащил треску из-под раскаленных камней. Он держал горячую рыбу прямо на ладони, не морщась, протягивал ее девочке.
Она взяла молча. Окунула в мясо губы, зубы. Обожглась. Отпрянула. Дула на горячее. Смеялась. Ее щеки пунцовели. Белые волосенки падали на лоб, на скулы.
– Спой, – тихо сказал он.
Она раскрыла рот и тихо пропела:
– Буря мглою небо кроет… вихри снежные крутя…
– Это тоже зимняя песня, – сказал Иакинф тихо и шагнул к ней. – Спой мне лучше колыбельную.
Они стояли рядом, очень близко, и страшились друг друга обнять. И темный огонь, и яркая тьма ходили, бешенствовали у них в прикрытых ресницами и вечерними снегами, покаянных глазах.
Стася, он целовал меня. Стася, я плохая. Я – перед ним – гниль!
Люся, а меня еще никто никогда не целовал. И у меня ребенок на руках. И я так хотела бы, чтоб меня кто-нибудь когда-нибудь поцеловал.
Стася, он задыхался, когда целовал меня!.. Он – священнник… Ему – нельзя…
Люся, священник любит и поклоняется, а еще и вожделеет, а еще и греховен, а еще и просто одинок, и ищет пониманья, и бежит от одиночества; пожалей его!
Мы все здесь одиноки, Стася. Мы все здесь грешники. Кто здесь мы?!
Господь один знает, кто мы здесь, Люся. Да вот еще этот младенчик неразумный.
Там. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-там. Внутри меня так громко стучит, возлюбленный мой.
Нет, это грохочет внутри меня, девочка моя. Я не слышу ничего, кроме тяжелого стука. Кроме грохота. Обвал. Мир обвалился и падает на нас. И мы падаем в пустоте. И внутри нас стучит, стучит по барабану палочками маленький, со злым взглядом, барабанщик.
Его давно убили, Иакинф. Он лежит на льду озера на Заяцком Острове. И рядом с ним его красный барабан и палочки. Белки приходят, соскакивают с сосен, чтоб лапками потрогать его посинелое лицо.
Так стучит у всех людей внутри?!
Да. Все слеплены из одного теста. Всех Бог намалевал на одном Иконостасе. Всех жгут в одном костре, и кричащие, торчащие из пламени лица всех так похожи, так…
Ты не похож ни на кого! Ты один!
И ты мне одна. Одна навеки. Аминь.
Бессвязный калейдоскоп их гуляний по Армагеддону падал из их рук, разламывался, раскалывался на мелкие цветные острые осколки, ранящие зрачок, вонзающиеся в сердце. Она прибегала возбужденная, пылающая: «Лех!.. О, Лех!.. Я сегодня получила огромный гонорар!.. Тьму долларов!.. За свою новую помаду под названьем „Голубка“! Из Канады!.. Босс мой тамошний сказал, что канадки просто упадут в обморок и начнут писать кипятком, когда эта моя помада появится в ихних лавчонках!..» – «Ну и что?.. – Он хмурил брови. Его глаза над сетью шрамов смеялись. – Мы идем по такому случаю есть оладьи на Пушкинскую?..» – «Нет. Не угадал. Мы едем на Ваганьково».