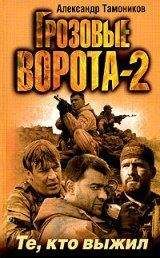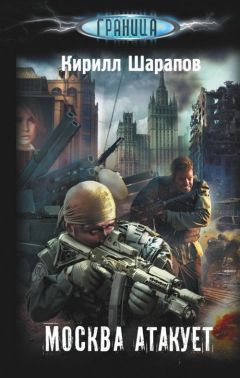Теперь, когда все усилия Соколовского, Скачко и их товарищей разбивались о судейскую несправедливость, Рязанцев вспомнил их приход и понял многое такое, что тогда скользнуло мимо его сознания. Они не зря хмурились, краем глаза оглядывали комнату отступника, который, не испытав на себе ни крови, ни настоящей беды, жил иллюзией, что даже в час общего горя его судьба и участь его семьи могут быть особенными, отличными от других. И самого себя он вдруг увидел глазами вчерашних лагерников: плешивого, осмотрительного, произносящего менторские, холодные, пусть верные, но никому не нужные слова. Горечь и стыд вдруг захлестнули так сильно, что Рязанцев привстал, беспомощно и тревожно оглядываясь, не видят ли его все вокруг таким, каким увидел он сам себя.
– Куда ты? – встревожилась Валя.
Рязанцев молча опустился на скамью, сидел понурый, уставясь на поле невидящими глазами.
– Ничем бы ты им не помог, – сказала жена, поглаживая его жилистую руку. – Ты болен, понимаешь… Это уже не для тебя.
– Болен? – переспросил он механически, думая о другом, и спохватился: – Да, конечно, болен… – Только в этом еще было какоето спасение.
Частыми, короткими затяжками Рязанцев докурил третью, последнюю, папиросу. Куда он, собственно, спешит? Спешить некуда – можно убраться домой или терпеливо сносить свинство, которое творится на футбольном поле с благословения рыжего взмыленного судьи. Видеть это нелегко всем, а ему, футболисту, и вовсе нестерпимо.
Рязанцев всматривался в толпу. Неужели он не найдет хотя бы еще одной пары таких же упрямых и несговорчивых глаз, как у этого стриженного лесенкой паренька? Что, если все вконец напуганы, смирились и тоже подсчитывают на бумажке, сколько лет еще может продлиться война, размышляют, набираясь терпения, и сжигают потом – из страха – и этот клочок бумаги? Поначалу ему показалось, что все обстоит именно так, в глаза прежде всего бросается печать нужды, опустошительной усталости, но так казалось оттого, что и взгляд Рязанцева был угнетен, метался по толпе, не задерживаясь ни на одном лице, не проникая вглубь.
– Ты совсем на игру не смотришь, – удивилась Валя и вдруг судорожно сжала его руку. – Они убьют мальчика!
Нибаум и защитник Блунк, тоже довольно грузный футболист, сыграли на этот раз чересчур опасно. Что-то они сделали с Павликом. Он стоит на коленях раскачиваясь, запрокинув голову, унимает идущую из носа кровь. Скачко, Соколовский и Павлик сыгрались, хорошо понимали друг друга и стали одолевать защиту «Легиона Кондор», но многоопытный Соколовский и Миша Скачко избегали прямых столкновений, а нетерпеливый Павлик то и дело попадался.
– Что они сделали с ним? Я не заметил.
– Этот вот, – Валя показала на Нибаума, – просто ударил его.
– Ногой?
– Кулаком! Представляешь: кулаком в лицо!
Севка засвистел, пригнувшись, сунув в рот пальцы. Павлик, будто он ждал именно этого сигнала, вскочил на ноги и понесся, как на финальной стометровке, к мячу, который Соколовский отбил у Гаммершляга и расчетливо послал в сторону ворот «Легиона Кондор».
Рязанцев со злым удивлением приглядывался к трибунам. Значит, люди так напуганы, что не решаются роптать, свистеть, как Севка, топать ногами. Даже взглядом боятся обнаружить свои чувства!
Злость заставила его придирчиво вглядеться в людей, и он понял, что ошибся. Не страх собрал сюда их и не подлые зазывалы комендатуры: скорее надежда.
Справа от Рязанцева зареченские железнодорожники. Они сидят плотным, темным роем. Старики машинисты со смуглыми, навсегда прокопченными лицами, кочегары, сцепщики, стрелочники, котельщики, литейщики, слесари из депо. Есть и молодежь – совсем мальчишки, война заставила их маршем пройти путь, на который в другое время ушло бы три-четыре года.
В нескольких метрах от Рязанцевых рыжий, взъерошенный и небритый человек лет тридцати пяти с деревянной колодой вместо правой ноги. Он, видно, еще не привык к самодельному протезу и, волнуясь, не отрывая глаз от футбольного поля, обеими руками перекладывает новехонькую, кустарную колоду то влево, то вправо. Рядом с ним молодая женщина в не по сезону жарком черном платье – она следит за игрой взглядом, в котором соединились растерянность, боль, презрение и какое-то личное, почти родственное участие.
Оглянувшись, Рязанцев заметил несколькими рядами выше хмурого фельдшера, с которым как-то познакомился в больнице на Садовой, когда показывался врачу-легочнику. Тогда ему показалось, что фельдшер поджидал его на больничном дворе и уже двинулся было ему навстречу, но в последнюю минуту почему-то передумал затевать разговор и молча пропустил Рязанцева к калитке.
За фигурой больничного фельдшера, через ряд, Рязанцев приметил старого знакомца – парикмахера со Слободки, отчаянного болельщика и знатока футбола. Он восседал в центре ватаги мальчишек, все они громко обсуждали ход игры и о чем-то перешептывались. Старый мастер слушал их, с сомнением пожимал плечами, поглядывал на безлюдные южные трибуны, над которыми белели круглые демонстрационные щиты, неодобрительно сводил седые брови, но в конце концов, по-видимому, сдался: двое мальчишек перебежками, часто оглядываясь, присаживаясь на свободные места, устремились к южным трибунам.
Теперь Рязанцев различал в людях и нечто более важное: он видел, как они вспыхивают гневом, как вздрагивают и трепещут ноздри, словно люди готовы броситься в драку, ощутил, какую силу излучают их напряженные взгляды.
Все пытливее приглядывался он к девушке в белом у ворот Николая Дугина. Кто она? Врач? Доброхотная сестра милосердия?
Кто бы она ни была, она пришла, чтобы помочь футболистам.
Еще года три назад и он мог бы оказаться полезным команде, но такой, как теперь, задыхающийся и от быстрой ходьбы, он им не нужен. Он был бы обузой для команды.
Хотя солнце пошло на убыль, оно все еще нещадно палило. Раскаленный воздух неподвижен. Игра длилась немногим больше получаса, а футболки на игроках потемнели от пота.
Конечно, он был бы обузой для команды…
Труднее других приходилось Дугину. Он часто выходил вперед – игра на выходах была его стихией, – в смелых бросках снимал мяч с ноги нападающих, перекидывал его в головоломном прыжке, когда уже казалось, что гол неминуем, через верхнюю перекладину, падал и пружинно поднимался, не тратя и секунды на оглядку, не успевая отряхнуться и перевести дыхание. Трибуны притихли. Дугин словно привораживал мяч, доставал его в полете, падал, прижав к груди, брал труднейшие низовые мячи, так безошибочно угадывал направление удара, что начинало казаться, будто немцы упрямо целятся во вратаря.
Это были минуты особого подъема, когда азарт и взволнованность не только не мешают расчету и профессиональной точности, но делают их совершенными, незабываемыми для зрителей. Такие минуты не часто случаются в жизни спортсмена, но, однажды возникнув, они захватывают, завораживают всех, словно говоря: смотри, как красив человек, он стремителен, точно птица в полете, собран, умен даже в простых движениях.
Это и было вдохновением – оно начиналось с обострившегося чутья, с предвидения, из мгновенной интуитивной оценки положения, по десяткам примет позволявшей предвосхитить направление, характер и силу удара.
Тихие дотоле восточные трибуны пришли в волнение, гул одобрения и выкрики стали доноситься оттуда. Дугину было не до криков, он их и не слышал, но его товарищи мгновенно ощутили перемену. Стадион оживал для них. Оживал город, и впервые с того мгновения, как Хорст Гаммершляг ввел мяч в игру, Соколовский подумал о Кондратенко с благодарным чувством. Он, хотя и не смыслил ничего в футболе, быть может, смотрел и пристальнее, и дальше, чем все они, готовые в те дни сразу же бежать из города.
Немцы так привыкли держаться у чужих ворот, что ослабили присмотр за Соколовским, в котором справедливо видели лидера команды, и не сдержали его прорыва на тридцать четвертой минуте первого тайма.
Получив мяч от Ивана Лемешко, Соколовский стремительно пошел вперед, обманным движением корпуса красиво, чисто переиграл центрального защитника Шенхера, обошел и опешившего Геснера и, не сбавляя скорости, двинулся на открытого вратаря. Цобель то ли оплошал, то ли увлекся стремительностью броска – он ведь когда-то и сам играл и любил футбол, – но, когда он в замешательстве поднес ко рту свисток, было поздно назначать штрафной – мяч лежал в сетке ворот.
Западные трибуны притихли. Сразу куда-то отлетела беспечность и самоуверенность, их словно отнесло порывом ветра. Разноголосый гомон уже не плескался в геометрических берегах трибун, не колебал их темно-зеленой, в черных пятнах, поверхности.
Недобрым холодком повеяло оттуда.
После того как слитный вздох облегчения и тысячеголосое «а-аах!» растаяли над стадионом, и на восточных трибунах залегла тишина.