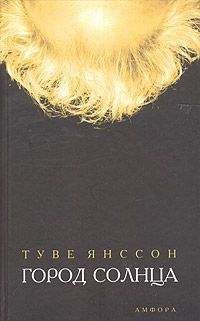Все дружно поставили бокальчики. Нет, это немыслимо, это самоубийство, за такое никто не выпьет ни капли. Таня сказала: «Подумай, Коленька, что ты говоришь? Ну, как ты будешь жить без бокса?» Саркис Саркисович обошел вокруг стола, обнял меня за плечи, сказал дрогнувшим, каким-то сдавленным, будто от большого волнения, голосом: «Больше мужества, мой друг, больше мужества…»
Вот странно! Получается, что всех больше всего заботит, брошу я бокс или нет. Уговаривают, как будто мне самому это легко… Ну, а о человеке забыли? О боксе-то я между прочим сказал, главное было в другом: как мне жить дальше?
Чудно: столько людей было в комнате, а я вдруг почувствовал себя одиноким.
Тост мой так и не состоялся. Напрасно выжимали по капелькам вино. О тосте просто забыли, а я напоминать не стал. Чтоб уж очень с боксом не приставали, сказал, что еще подумаю. Съезжу туда, потом решу.
О том, что я говорил про заводской гудок, — никто ни слова. Это было никому не интересно.
Расходились почему-то скучными. К Павлу Михайловичу решили не ехать. В передней жена Сергея Валентиновича раздраженно теребила мужа, застегивала на нем пальто: «Оденешься ты, наконец, несчастный…» Мариетта Михайловна, дергая плечом, недовольно басила, что опять не найдешь в этом проклятом городе ни одного таксомотора. Саркиса Саркисовича мучила изжога и одышка, под глазами набухли глянцевитые мешочки. Он сунул мне руку, пожелал успеха в предстоящем бою, что-то кажется еще хотел сказать, но раздумал, зевнул в ладошку, пошел сутулясь.
Мы с Таней остались одни. Принялись, как обычно, вместе убирать посуду. Потом оба спохватились, что еще не собрали мои пожитки в дорогу: «Боже мой, — сказала Таня, — я же тебе ничего не выгладила!»
Потом еще долго, лежа в постели, разговаривали. Да, конечно, Таня была со мной во всем согласна. Пусть будет так, как я задумал: «Ты чистый, Коля, хороший… Делай, как сам решил». — «Ты мне поможешь?» — «Конечно, милый, если смогу…»
За окном моросил дождик, позванивал в водосточной трубе, как бывало у нас, когда я жил у матери. Петькин резиновый крокодил, доброе глупое чудище, таращил выпуклые глаза, развалясь на подоконнике.
— Понимаешь, — философствовал я, совершенно успокоенный тем, что самый близкий мне человек, моя Таня, со мной во всем согласна, как я и ждал, — понимаешь, ведь так подумать — мы еще совсем молоды, верно?
— Верно, милый…
Я вспомнил, как Мариетта Михайловна предлагала мне стать натурщиком, засмеялся: «Знаешь, а ведь она серьезно… Честное слово!» — «Не думаю, милый…»
Ну, может быть, и шутила. Кто ее знает. Все это не имело теперь никакого значения.
Дождик все моросил. Там, совсем неподалеку отсюда, мокла под дождем реклама фильма, только что вышедшего на экраны. Сейчас, я мог спокойно ее вообразить себе. Я знал: еще долго будет паршиво на душе, всякий раз, как она попадется на глаза. Но сейчас, когда мы вот так лежим и разговариваем, когда все решено, я могу спокойно воображать себе туго натянутую холстину, по которой шуршит косой дождик.
— Знаешь, это даже хорошо, что так случилось. Правда?
— Правда, милый…
Почему все-таки они уходили такими скучными? Может быть, я чем-нибудь их обидел?
Это я хорошо, между прочим, сказал: прежде всего мы рядовые советские люди.
Вот когда так думаешь, ни черта тебе не страшно.
1
Мы стояли у окна вагона, и мимо нас, четко отсчитав такт, пробежали пролеты длинного моста, потом опять побежали сжатые, с высокими копешками, осенние поля.
— Сам-то чем занимаешься?
— Как ты сказал?
Это я нарочно переспрашиваю. Надо подумать, прежде чем отвечу. Если скажу, что вот еду драться, а пока больше нет ничего — не поверит.
Ему легко. Я уж все про него знаю. Он из смоленских краев, комбайнер, по фамилии Кот, зовут, как меня, Николаем. «Чудная фамилия, верно? Зато запомнишь враз!» Он мой ровесник по годам, а выглядит старше. Дубленная солнцем кожа, жесткие морщины у рта. И голос у него жесткий и напористый. Особенно становится напористым, когда он ругает на чем свет стоит конструкторов: «Ножи, можешь ты понять, не режут — жуют, как телок рубаху… В чем, думаю себе, причина?»
Изба путевого обходчика с голенастым желтым щенком во дворе пронеслась мимо. На огороде девчонка в ватнике разогнула на минуту спину, бросила в корзинку красноватый, в земле, картофель, посмотрела из-под руки на поезд.
— Ты говоришь картошка… Это жуть, до чего народ мается с ней… А ведь есть машины! Комбайн существует, так и зовется — картофелеуборочный…
И хотя я ничего не говорил о картошке, меня забирает за живое, отчего же не работают эти самые комбайны на вязкой, к примеру, глине и как действительно сделать, чтоб они работали.
— Ты слушай меня…
Я слушаю и смотрю, как мой новый знакомый показывает на пальцах с широкими приплюснутыми ногтями, чего он там хочет приспособить, чтоб глина трусилась, не липла скользким комом.
— Тогда должно получиться, понимаешь…
— Понятно, — киваю я.
И почему-то мы оба довольны, оба горды: должно получиться!
Пылью махнуло в лицо, засвербило в носу и в горле. Весь серый, будто в седине, прошагал мимо цементный завод, защелкали товарные, тоже в седине, вагоны с размашистыми и корявыми надписями мелом: куда, значит, товарнякам держать путь.
— Сам-то, говорю, чем занимаешься?
Вот пристал человек… И ведь никуда не денешься, отвечать надо. Может, рассказать тезке все, как оно есть? Попутчики случайные, разойдемся, как встретились.
Пронесла проводница чай в серебристых подстаканниках. Геннадий высунул голову из купе: «Тебе брать, Коноплев?» Я сказал Геннадию, что мне чай брать не надо, мы вот с приятелем попьем чаю у него.
В конце коридора вышел постоять у окна Аркадий Степанович. Покосился на меня: с кем, мол, я. Вроде ничего — одобрил.
— Кто таков? Страшен мужик, — сказал комбайнер.
Мы пили чай у него в купе. Я принес пачку печенья, он выставил на коричневый вагонный столик баночку с маслом, выложил помидоры, буханку белого хлеба, соль в бумажке.
— Ты говоришь: чем занимаюсь…
Не будь дорога, встреться мы с человеком по-иному, ничего б я о себе рассказывать не стал, не из тех, кто распахивает рубашку на груди: глядите, мол, какой я есть.
Но — дорога… Короче, выложил я все, как оно было, ничего при себе не оставил.
— Ты мне скажи: плевали тебе когда в рожу?
— Что ты!
— А мне, видишь, плюнули. Хоть я, между прочим, боксер тяжелого веса и за себя постоять могу. Но тут это ни к чему… Сам виноват, не лезь, куда не надо… Темень была в кино, а все, казалось, тычут в меня пальцами: артист погорелого театра… Красиво?
Мы ели красные помидоры, мясистые и свежие. «Свои, — сказал Николай, — угощайся вволю…» Он был явно смущен чужой бедой и не знал, как быть: утешать, сочувствовать или погодить, может, все хорошо кончится.
Помолчав, стал рассказывать, вроде, бы и не к селу, как и его вот тоже затаскали по всяким конференциям, слетам, районным, областным, республиканским, уж он не знает каким.
— Можешь понять, вовсе жизни не было. В одном президиуме отсижу, смотришь, обратно бегут из правления: «Живо собирайся! На Кубань заседать поедешь, на слет рационализаторов!» На Кубань, подумай! Значит, самое малое, дён десять отдай. Дело-то стоит… А как же? И с ребятами вроде поврозь. Сам суди: мне часы золотые, отрез на костюм, то да се… А работаем-то вместе. И, может, они еще поболе меня вкалывают, покуда я летаю туда и сюда…
Рассказано, вроде, ни к тому, но мы оба понимаем: в самый раз пришлось.
— Чуть я не запил, ей-богу. Неправильно ж то: вытащат тебя одного на верхотурку, а там одному тоска! Разве ж для этого старался? Если и придумаешь, чтоб получше, так это нормальным должно быть… Народ и так спасибо скажет…
— Чем же кончилось?
— Перестали тягать. Я в Москве, на всесоюзном слете, прямо с трибуны ляпанул: мешает, мол, работать такая вот карусель… Думал, пропал. Так нет же! Михаил Иванович Калинин, старенький он, глуховатый вроде. Но тут услыхал, за бородку взялся: «Толково выступает товарищ!» Ну, с тех пор, вроде, полегчало…
Мы вышли в коридор. Свечерело. В разводьях низких, тоже куда-то спешащих облаков проглядывало красноватое, к ветру, закатное небо. Николай опустил раму — покурить.
— Дальше-то что делать будешь, надумал, боксер?
— Надумал…
Я сказал, что квалификация у меня есть. Электрик. Не то чтобы очень хороший, но разбираюсь в моторах, в осветительной сети.
— Электрики нам позарез, — сказал Кот, то ли про свое хозяйство, то ли вообще, в государственном, так сказать, масштабе.
Пожаловался я, что с образованьицем неважно: семь классов. Он тоже посетовал: «Все, понимаешь, руки не доходят. А надо. Чем дальше, тем будет трудней: техника вон куда шагает!»