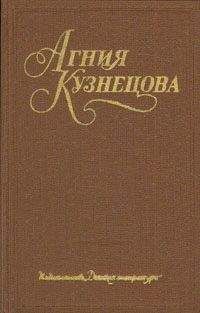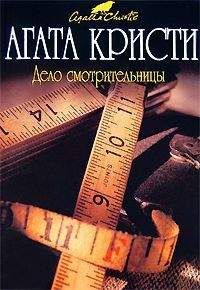Так что, если хотите — наше общество — идеальное средство от запоров.
Зато в ванну я не стоял ни секунды. Ее просто не было.
В нашей квартире жило шесть семей или двадцать девять человек — интеллигенты и следователи, члены партии и воры, — хотя часто это совпадало, уголовники и ученые, иудеи, христиане, татары и антисемиты.
Как вы понимаете, ни о каком мирном сосуществовании в одной берлоге не могло быть и речи. Достаточно было одной искры, как говорил когда-то Ленин, правда, совсем по другому поводу, чтобы возгорелось пламя. И такое пламя постоянно бушевало в нашей квартире. А искрой могло быть все — долгое занятие туалета, образование государства Израиль, запах щей или конины, короткое замыкание или длинный еврейский нос, или процесс врачей-убийц…
Не знаю, помните ли вы этот процесс, но я его хорошо помню…
Уж лучше б я его забыл…
Тогда врачей-евреев обвинили в отравлении Сталина. Или, если хотите, международное еврейство с помощью своих врачей пыталось отравить отца и учителя всего человечества. То есть, как вы понимаете, готовили не просто убийство, а отцеубийство.
Конечно же, они просчитались, потому что надо быть полными идиотами, чтобы пытаться отравить бессмертного…
Поликлиники опустели. Не потому, что все вылечились или перемерли, а потому, что многие врачи, как и у вас, были евреями. И если уж они подняли руку на великого Сталина — то им ничего не стоило опустить ее на менее великого пациента…
И остался всего один бессмертный — Ленин. Правда, тоже в гробу…
Вот в такое веселое время мы жили. И что для нас было не пообедать или там не поужинать…
Поэтому отказаться от завтрака — было для меня раз плюнуть.
По утрам, вместо завтраков, я читал и думал. Две приятные вещи, которыми мы так редко занимаемся… Возможно потому, что за них не платят.
И вы знаете, я так много думал и так мало ел, что к среде, совершенно неожиданно для себя, открыл закон…
Честно сказать, я даже испугался. Как вы, наверное, догадываетесь, до этого я законов не открывал.
Это был первый закон ЯНКЕЛЕВИЧА…
Открыть его мне было непросто, я думаю — труднее, чем Ньютону. Ему для открытия было достаточно увидеть падающее яблоко, в то время, как я вынужден был проанализировать всю мою жизнь. И знаете, к чему я пришел? Вы не поверите! Оказалось, что вся моя жизнь — сплошная глупость. Ну, подумайте сами — разве не глупость, что я родился там, под сталинским солнцем, когда во всем мире светит обычное?.. Разве не глупость — всю жизнь считать их рубли, когда в мире столько прекрасных валют — например, «крузейро», хотя он и падает.
А то, что идя в атаку во время войны я кричал «За Родину!», «За Сталина» — а не «За Розу!», «За Ильюшу!»… — разве это не глупость?..
И вот — Розы уже нет, а Ильюша там, с женой и внуком. А я вот здесь, один. Разве это не очередная глупость, что я уехал умирать на свободу, а они остались жить там. Потому что эти сволочи их не выпустили… И, скорее всего, я их никогда не увижу…
Ну, так скажите — разве все это не глупость? И как я не крутил, не вертел — получалось, что всей моей жизнью правила глупость, всесильная глупость, и своя первый закон я назвал: «Закон всемирного сохранения глупости». Вот он: «Глупость не исчезает и не возникает вновь, а просто переходит из одного состояния в другое».
Открыв его, я даже немного расстроился. По нему получалось, что бороться с глупостью совершенно глупо.
И на сцене появился ДЖАГА.
ЯНКЕЛЕВИЧ. Ну, как он вам нравится, мой закон?
ДЖАГА думал.
ЯНКЕЛЕВИЧ. Что вы молчите? Вас что-нибудь смущает?
ДЖАГА. Нет, но у меня есть одно маленькое возражение.
ЯНКЕЛЕВИЧ. Интересно, какое?
ДЖАГА. Вы утверждаете, что глупость не исчезает и не возникает вновь? (ЯНКЕЛЕВИЧ задумался). Мне кажется, что в нашем веке возникло больше глупости, чем за девятнадцать предыдущих.
ЯНКЕЛЕВИЧ. (качая головой) Согласен, абсолютно согласен. Какую Формулировку предлагаете вы?
ДЖАГА. Очень простую! (ДЖАГА от возбуждения даже разрезал воздух рукой) «Глупость не исчезает, а возникает вновь.»
ЯНКЕЛЕВИЧ. (задумавшись) Возникает и возникает…
ДЖАГА. Не против.
ЯНКЕЛЕВИЧ. И еще «отнюдь». Перед «исчезает».
ДЖАГА. Идет!
ЯНКЕЛЕВИЧ. И как же теперь выглядит наш закон?
ДЖАГА. Примерно, так: «Глупость не исчезает, а только возникает и возникает вновь.»
И первооткрыватели добродушно похлопали друг друга по плечам, затем обнялись и молча стояли, покачивая седыми головами.
ДЖАГА. Какой удивительный день!
ЯНКЕЛЕВИЧ. Чудесный. Как прекрасно, что природа не зависит от режима. Здешняя весна мне напоминает нашу… Они там изменили почти все, но с весной ничего поделать не могут. В мае начинают цвести деревья… Вы любите весну?
ДЖАГА. Очень.
ЯНКЕЛЕВИЧ. Я тоже… Хотя каждой весной у меня обостряется язва. Но весной я встретил Розу, весной у нас родился сын, и весной мы улетели из этой страны… Это было апрельское солнечное утро. Мы ждали его почти три года… Столько времени нас не отпускали… Нас мурыжили. А Ильюшу с семьей так и не отпустили. И мы полетели вдвоем с Розой…
ДЖАГА. А почему не отпустили вашего сына?
ЯНКЕЛЕВИЧ. Мы их тоже спросили об этом. И знаете, что они нам сказали? «Придумайте сами себе любую причину, какую захотите».
ДЖАГА. Мне кажется, я знаю эту причину. Они — мерзавцы.
ЯНКЕЛЕВИЧ. Мы с вами нашли одну и ту же причину. Да… И вместе с тем трудно покидать землю, на которой родился, прожил почти семьдесят, пережил три войны, три тюрьмы и один погром… Или два? Я уж точно не помню…
На таможне нам сказали: у вас было все — квартира, машина, телевизор. Почему же вы уезжаете, жидовские морды?
— Вот поэтому и едем, — ответил я.
ДЖАГА. И вы их не ударили?!
ЯНКЕЛЕВИЧ. Нет. После этого нас повели на личный досмотр. Меня раздели догола. Пришли двое в белых халатах и начали меня осматривать… Я был так взволнован, что вначале даже принял их за врачей… Я никак не мог понять, чего это вдруг они начали заботиться о моем здоровье. Они заглядывали в уши, в глаза, в нос…
— Товарищи, — сказал я, — я совершенно здоров. Если не считать грыжи и язвы, у меня ничего не было. Я пошел в своего отца. Мой отец…
И тут они мне заглянули… Поверьте, мне даже стыдно сказать, куда они заглянули…
ДЖАГА. Что вы говорите?!
ЯНКЕЛЕВИЧ. Что слышите. И я им сказал, что это место меня не беспокоит, что я на него не жалуюсь, что у меня никогда не было геморроя. Но они продолжали поиск… И только потом я понял, что они там искали…
ДЖАГА. Что? Что там можно искать?!
ЯНКЕЛЕВИЧ. Камни! Они искали камни.
ДЖАГА. Там?!
ЯНКЕЛЕВИЧ. Именно!
ДЖАГА. Но камни же, насколько мне известно, в печени или в почках. А почки разве там?
ЯНКЕЛЕВИЧ. Майн таэре, они искали драгоценные камни… Они думали, что мы их перевозим именно в этом месте… Поверьте, даже если бы они у меня и были, я бы их перевез в другом. Но я ничего не взял с собой, ничего, кроме Розы, которую я не прятал. Я был гол, как сокол.
ДЖАГА. И кем стали!
ЯНКЕЛЕВИЧ. (разводя руками) Что вы хотите — случай… (он полез в карман, достал пакет и протянул ДЖАГЕ). Угощайтесь!
ДЖАГА. Что это?
ЯНКЕЛЕВИЧ. Маца. У нас пасха.
ДЖАГА вяло откусил.
ЯНКЕЛЕВИЧ. Ну, как? Нравится?
ДЖАГА. Да… Но я думаю, что с молоком и маслом было бы вкуснее.
ЯНКЕЛЕВИЧ. Скажите мне, откуда в пустыне было масло и молоко?.. Откуда? Ничего этого не было, когда Моисей вел нас к Земле Обетованной.
ДЖАГА. А откуда мука?
ЯНКЕЛЕВИЧ. Э…э… Мука с неба.
ДЖАГА. Разве оттуда не могло упасть и все остальное?
ЯНКЕЛЕВИЧ. Послушайте, ДЖАГА, вы, случайно, не еврей?
ДЖАГА. Чего это вдруг?
ЯНКЕЛЕВИЧ. Ну, вы отвечаете вопросом на вопрос… Не правда ли?
ДЖАГА. Разве?
ЯНКЕЛЕВИЧ. Ну, вот видите… И потом — с каким аппетитом вы жуете мацу.
ДЖАГА. Я просто проголодался.
ЯНКЕЛЕВИЧ. А ваши глаза… Достаточно только в них взглянуть…
ДЖАГА. Причем тут глаза?
ЯНКЕЛЕВИЧ. Притом, что у вас печальные еврейские глаза.
ДЖАГА. Не знаю… Может быть… У вас вот, например, греческий нос. А если у еврея может быть греческий нос, почему у француза не могут быть еврейские глаза? Глаза — да, я — нет.