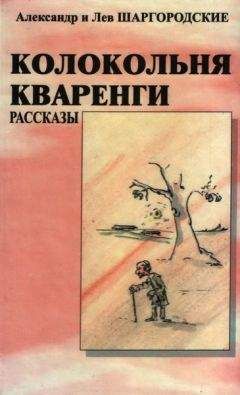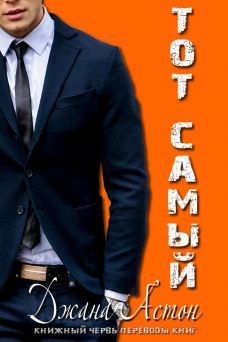Лук был всегда, сковородка — тоже, и иногда бывало масло.
Мы брали огромную черную сковороду, ставили ее на нашу конфорку — остальные были соседскими — и посыпали сковородку солью — соль тоже всегда была. Мы посыпали ее солью, чтобы лук лучше поджарился и хрустел. Как яблоко на морозе. Должно же было хоть что-то хрустеть…
А потом прямо с пылающей сковороды мы уминали все это с черным хлебом, и кто ел горбушку — тот был особенно счастлив. И обе горбушки всегда доставались мне! Возможно, поэтому у меня было счастливое детство…
И так мы жарили этот лук лет пять, а может, восемь, пока не разразился скандал…
Скандалы в нашей коммунальной квартире происходили довольно часто. Жило у нас шесть семей, или двадцать один человек. Это были интеллигенты и «оперы», члены партии и лишенцы, уголовники и ученые, иудеи, христиане, татары и антисемиты… Ни о каком мирном существовании в одной берлоге не могло быть и речи!
Достаточно было одной искры, как говаривал Ленин, чтобы возгорелось пламя! И такое пламя все время бушевало в нашей квартире. Искрой могло быть невесть что — долгое занятие туалета, образование государства Израиль, запах щей или конины, процесс врачей-убийц, стульчак унитаза и длинный еврейский нос. Из этих искр пламя возгоралось значительно быстрее, чем из ленинской…
Солнце, которое светило в окна одних — не давало покоя другим…
И на сей раз пламя возгорелось из нашего лука. Наш лук, когда он жарился — он шипел и брызгался. И святая ненависть к этому внезапно объединила всех — и лишенцев, и татар, и иудеев, и коммунистов. На закрытом партийном собрании, периодически проводимом в нашей квартире ученым дядей Борей для решения наиболее острых проблем, была единодушна принята резолюция, запрещающая нашей семье жарить лук в местах общего пользования!
Мама не спорила, она никогда не спорила на партийных собраниях, даже проводимых на кухне. Она купила нам электрическую плитку, и мы начали жарить лук в нашей комнате. Это было непросто — спираль в этой чертовой плитке все время перегорала, и, кроме этого — всегда перегорал свет. Как только мы включали плитку — тотчас перегорал свет — пробки не выдерживали. В квартире наступала кромешная тьма. Соседи наступали друг на друга!
И нам запретили жарить в комнате!
Единственное лакомое блюдо уплывало от нас. И мы нашли выход: чтобы выдерживали пробки — мы выключали свет в комнате. Чтобы не заметили соседи — мы занавешивали окна, затыкали газетой замочную скважину, громко включали радио, из которого неслись задорные песни — и жарили!..
И соседи никак не могли понять, чего это мы так радуемся и все слушаем и слушаем задорную музыку!
Спутник уже летал над нами, а мы жарили в темноте… До сих пор я вижу красный свет этой спирали, нашу темную комнату и ленинградский вечер за окном…
…Я стоял на той стороне проспекта, в шапке-ушанке, уже совершенно замерзший и смотрел, как женщина грызет яблоки… Я шмыгал своим окоченелым красным носом и смотрел… Когда она достала четвертое яблоко — я пошел домой. Я перешел улицу и, стараясь не смотреть на нее, вошел под арку.
— Мальчик, — позвала она меня.
Я остановился.
— Хочешь, — она протянула мне огромное яблоко.
У меня остановилось дыхание.
— Спасибо, — сказал я, — у нас есть.
— Бери, бери. Оно вкусное. Из Сухуми.
Пахнуло летом и его запахами.
— А у нас — из Риги, — ответил я, — полные чемоданы!
— Таких у вас нет, попробуй!
— У нас вкуснее, — сказал я, — и потом — кто же ест яблоки перед обедом? И, вообще, я их не люблю! Я их ненавижу! Тем более, красные! Тем более, зимой!..
И я убежал. И мои оттопыренные уши, как фонарь, светились под шапкой-ушанкой.
Я убежал домой, занавесил окна, выключил свет, включил бодрые песни, включил плитку и начал готовить наше любимое блюдо — жареный лук на черной сковороде. Я резал лук и плакал, и плакал, потому что, наверное, всегда плачешь, когда режешь лук…
И соленые слезы мои падали на сковородку, и, может, поэтому лук получился как никогда румяный и хрустящий…
И опять горбушка досталась мне. Я ел это царское блюдо и думал о далеком лете, о большом рынке, где говорили по-русски, по-латышски и по-еврейски, и о яблоках, твердых, как бицепсы моего дяди, и зеленых, как луг у реки Лиелупе…
…Давно это было. Я уже много старше той женщины, что хрустела под аркой яблоком. Да и арка та уже далеко. И никогда уж мне не войти под нее. И не перебежать Владимирский, бывший Нахимсона…
Сейчас я ем яблоки зимой. И груши. И грейпфруты с клемантинами. И смуглые киви с зелеными авокадо. И могу разрезать кокос и выпить его молоко… Как вы догадываетесь, я живу не при коммунизме. Ибо, как правильно сказала когда-то Анна Андреевна, при коммунизме не будет ни яблок, ни денег…
Я ем все это и вижу ту плитку, тот огонь, того мальчика в ушанке… И мечтаю о яблоках зимой…
На огромной площади, перед греческим портиком, напоминавшим нам, что где-то существует демократия, возле Думы, колыхалась огромная толпа желавших куда-нибудь уехать.
Чтобы уехать в июне, надо было начать колыхаться в январе, в стуже, в темноте — растирать уши, топать ногами и пускать пар из ноздрей. Все это называлось «отметка». Два раза в неделю надо было отмечаться в огромной очереди.
— 1257! — выкрикивал какой-нибудь тип в ушанке.
— Здесь! — отвечали вы.
— 1258!
— Присутствую!
Если кого-то не было, его вычеркивали, и он моментально терял очередь и оставался на лето в Ленинграде — в дожде, сером небе, в гнилых яблоках.
Мы никогда не пропускали «отметку». Папа отпрашивался с завода, мама с уроков, а я просто прогуливал школу: все в июне мечтали сесть на поезд и уехать на Рижское взморье из темных комнат и гулких дворов.
У Думы всегда толкались странные люди, которые притаскивались туда, когда никаких отметок не было. Среди них был и папа. Еще на Невском, приближаясь к бывшему парламенту, он слышал доносившиеся голоса.
— Семьдесят четыге! — выкрикивал кто-то.
— Здесь, — отвечал бодрый голос.
— Тгидцать тги, — доносилось до него.
— Тут!
— Согок!
Папа был почти у портика.
— Здесь! — выкрикивал он.
В январе эти люди произносили майские цифры, и им становилось теплее. Папе почему-то мерещилось, что все эти люди картавили.
Это было неточно, но папе почему-то казалось, что среди отмечающихся в неурочные дни все были евреями. Ему казалось, что они ждали совсем других билетов, в другом направлении. Он не хотел говорить куда — папа не говорил, если он не был уверен. Часами толкался он на брусчатке между Думой и портиком, и уже где-то к вечеру, когда зажигались желтые фонари, в одном из окон парламента папе иногда чудилась прекрасная голова юной феи.
— Отметка билетов на…, - кричала хриплым голосом фея, — отметка билетов на…
Папа не уточнял куда, но он бы записался первым.
Странные люди, приходившие в неурочные дни, ждали совсем иных билетов.
Глаза у них были черными, носы чуть длиннее обычных, и все они нервно курили «Беломор».
— Вы куда едете?
— В Ригу, а вы?
— В Грузию.
— Чего вдруг в Грузию?
— В Грузию дальше.
— Дальше от чего? — интересовался папа.
Папа знал «от чего», и все знали, но никто не говорил.
В такие дни папа приходил домой радостный и просветленный.
— Что вы тут сидите в темноте, — говорил он нам, — странные люди, пойдите поотмечайтесь.
Мы натягивали валенки, напяливали ушанки и неслись к Думе.
— Согок четвегтый, — долетало до нас, — тгиста тгинадцатый.
— Здесь! — вопили мы, — Здесь!
В зимнем тумане, в желтых огнях мы видели зеленый поезд, везущий нас в лето.
Мы возвращались в прекрасном настроении, за окном уже не было никакой стены, море плескалось перед нами, и волны бежали за горизонт.
Нет, нет, самые лучшие дни отметок были, когда отметок не было.
Почему нас так тянуло в Ригу? Конечно, там были родные и бескрайний пляж, и море, но я думаю, что Ригу мы любили еще и потому, что в ней тогда еще сохранились запахи другого мира, где есть парламент и возможность купить тот самый билет у юной феи.
Вскоре эти запахи исчезли и сменились совсем другими. По всей стране стоял один и тот же смердячий запах…
Но тогда все еще было по-иному.
Мы считали дни до отъезда.
Кончались морозы, в окнах играл март.
— Ну, всего сорок четыре, — улыбался отец.
В комнате у нас уже пахло хвоей, и морем, и бабушкиным домом.
Иногда мама по вечерам задавала риторический вопрос:
— А почему бы нам вообще не переехать в Ригу? У нас тут никого нет.
Мы подхватывали мамино предложение. Папа был настроен скептически.