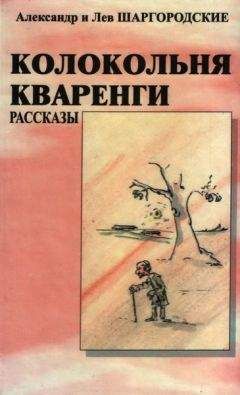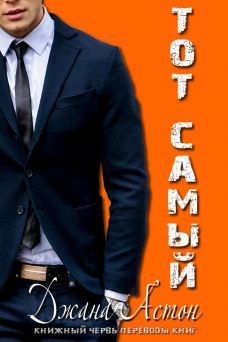Потом так же ехал наш сын, и рядом стояла моя жена.
Наша жизнь — это тряска в общем вагоне на верхней полке.
Она не страшна, если ты просыпаешься, и рядом стоит мама…
На моей совести один повешенный еврей. Где-то в конце сороковых его повесили на развесистой груше фруктового сада восточного тирана. Еврея звали Нисся Цукельперчик, он мог на память процитировать любую главу из Талмуда или цитату из произведений того самого диктатора, а его повесили на цветущей груше, весной, прямо перед окнами правителя. Тиран любил по утрам задумчиво смотреть в сад и обожал разнообразие. А здесь каждый день — груша да груша.
— Вчэра груша, — говорил он с горным акцентом, — сегодня груша! завтра груша! Нельзя ли разнообразить меню?!
И генералиссимусу подали грушу с Цукельперчиком.
— Довольно вкусное блудо, — шутил диктатор.
Тиран любил пошутить. Периодически всю страну облетали его крылатые шутки. Из последних — его дружеская беседа с известным режиссером. Все население валилось от смеха, пересказывая ее.
— Ты смотри, — сказал правитель режиссеру, — нэ зазнавайся! А то мы тэбя повэсим!
— За что?! — испугался режиссер.
— За шэю, — пошутил генералиссимус…
На самом деле кремлевский горец повесил Цукельперчика конечно не потому, что ему приелась голая груша, мудрый еврей его возмутил.
Горцу предложили расстрелять Цукельперчика в тюрьме, или придушить в лесу, недалеко от дачи, или утопить в живописной реке, всего в трех километрах.
— Нэт! — кричал горец, — На грушу! Сэйчас же!!
…Лакированные ботинки Цукельперчика блестели в лунной ночи подмосковной равнины.
Наутро они пропали…
…Честно говоря, сердце мое за Цукельперчика не болело, поскольку он был, хотя и мудрец, но порядочная сволочь и хотел, чтоб на груше в своих рваных ботинках болтался я.
А я с детства не любил грушу и так люблю жизнь! Я люблю яблоки, кислые яблоки антоновка, стреляющие соком в подбородок. Вы можете заметить, что меня можно было повесить на яблоне — ничего не могу возразить…
— Тебя-таки надо было повесить на яблоне, — говорил мой дед, — ты знаешь, почему?
— Знаю, — отвечал я, — потому что я печален.
— Ты не радуешься жизни, Хаимке, — дед прищуривал глаза, — грусть это грех. Запомни. Вот тебе история, рассказанная рабби Яковом-Ицхаком из Люблина. Ты знаешь рабби Якова-Ицхака?
— Нет.
— Ну, конечно! Ты знаешь Сталина, ты знаешь этого хазера Кагановича, и не знаешь Провидца из Люблина! Ну, так слушай. «Больше всего остерегайтесь тоски, — сказал рабби, — ибо она хуже и опаснее греха. Злые силы будят в человеке страсти не затем, чтобы его ввести в грех, а затем, чтобы охватила его тоска».
Дед мой был хассидом, но упорно скрывал это, боясь ссылки в Сибирь.
— Ты же знаешь, — говорил он, — я плохо переношу холод…
Был он то виноделом, то хлебопеком, но в основном продавал крестьянам кукурузную муку в своем местечке, где-то между Украиной и Польшей, и всегда по пониженным ценам.
— Зачем ты это делаешь? — регулярно спрашивала его моя бабушка, которую я никогда не видел, — В прошлом месяце ты заработал сто рублей, в этом — пятьдесят, что будет в следующем?
— Они бедные, — объяснял дедушка.
— А ты? Ты — Ротшильд?!
— Я хассид, — говорил дедушка, — я радуюсь жизни и так, я привык.
— Если ты будешь так продолжать радоваться жизни, — отвечала бабушка, — нам придется продать хату.
Так и случилось. Бабушка вскоре умерла, и дед продал хату.
— По сниженной цене, — рассказывал он потом, — потому что они бедные, а я — хассид. Хассиды могут радоваться жизни и так.
Короче, дед загнал хату и прибыл к нам в Ленинград.
Спать ему было негде. Я возлежал на стульях, мама — на чертежной доске, папа — на подоконнике.
— На часть денег от хаты можно купить диван, — предложила мама.
— Какая хата? — удивился дедушка, — какой диван?! Я раздал долги, еще остался должен 500 рублей Рухимовичу. Давайте отдадим деньги Рухимовичу — и я с удовольствием буду спать на полу.
После ареста моих родителей мы жили с дедом вдвоем, в темной комнате на втором этаже большого ленинградского дома, возле высокой колокольни, построенной загадочным итальянцем Джакомо Кваренги и превращенной в рыбный склад.
Если б Кваренги двести лет назад сказали, что он строит склад, он бы подавился своим тосканским вином. От храма всегда несло треской, мерлузой, судаком, корюшкой.
— Ответьте мне, — спрашивал дед, — зачем корюшке барокко? Разве бы ей не хватило пламенной готики?
Дед всегда много спрашивал. Он передал и моему отцу длинный язык, может поэтому после приезда деда вместе мы жили недолго, Дед рассказывал хассидские притчи, а папа пересказывал их на работе.
— Ребе Нахмана из Брацлава, — болтал папа в своем отделе, — как-то спросили: «Почему на земле не хватает места для всех?» «Потому, что каждый хочет занять место другого», — ответил ребе.
Вскоре папа оказался в Сибири, как хассид…
Дедушка сидел на сломанном венском стуле и вздыхал.
— Всюду нужны хассиды… Сибири нужны хассиды… Не послали меня — так послали моего сына… Скажи мне, Хаимке, к кому я могу пойти и сказать, что он никакой не хассид! Если Сибирь нуждается в хассидах — пусть пошлют меня…
— Если вы это скажете, — встревала мама, — то в Сибирь сошлют вас. Вы считаете, что Сибири необходимо два хассида?
Вскоре арестовали и маму.
— За что? — спросил я. — Она тоже хассид?
Дед раскачивался на венском стуле.
— Мы не знаем, зачем мы приходим в этот мир, — говорил он, — и не знаем, куда уходим. Почему мы должны знать, за что нас арестовывают? Скажи мне, Хаимке, за что нельзя арестовать в нашей прекрасно стране? За геморрой нельзя?..
Я продолжал учиться в школе, дед — читать свои книги, на том же стуле, под лампой, рядом с четвертушкой «московской».
У деда было много книг еврейских мыслителей. Там был и мудрый рабби Акива, и несравненный Хилель, и неистовый Спиноза, и ироничный Бен-Сира. Там были редкие тома в кожаных переплетах и маленькие потрепанные книжицы. Хранилась эта библиотека в нашем сарае среди дров, старых вещей и мышиного помета, в дикой вони и кромешной тьме.
— Так спокойнее, — говорил дед.
Когда я ходил за дровами, я приносил одну книжицу и давал ее деду
Он осторожно брал ее, целовал и раскрывал.
Читал он всегда без очков, немного шевеля губами и периодически вскрикивал.
— Ой, вей, Хаимке, кум цу мир!
— Дедушка, — отвечал я, — я готовлю химию.
— Майн Гот! — восклицал он. — Зачем хассиду химия?! Все кипит, шипит, булькает! Ставит пятна! Прожигает штаны! Вода — H2O!! Скандал! Вода — это радость, жизнь, свежее утро! Хассиды пьют воду, Хаимке, а не H2O! И запомни — на второй день Творенья Бог создал не H2O, а воду! Брось химию, брось, кум цу мир, послушай, что пишут мудрые люди. — Он приближал книгу к глазам:
— «Евреи так же необходимы миру, как ветры». А? У тебя есть слова?! У меня нет!! Как хорошо, что еще не придумали формулу ветра, воздуха, еврея! Ну, иди-иди, штудируй свою химию.
Дед снова погружался в чтение, а я брался за учебники.
— Сталинская конституция, — учил я, — самая гуманная в мире.
Из угла раздавался сдавленный смех.
— Хаимке, — звал дед, — кум цу мир.
— В чем дело, дедушка? Я изучаю правовые основы нашего государства.
— Майн Гот! — вскрикивал дед. — Они обошли хассидов. Как можно изучать то, чего нет?! Даже хассид не может изучать то, чего не существует. Слушай, что написал умный аид — дед склонялся над книгой: — «Не потому ли евреи выше других, что их часто вешали?»
Дед поднимал голову и смотрел на меня.
— А, у тебя есть слова? У меня нет! Вешать — вот их право. Чем больше придумывают законов, эти хазейрем, тем выше поднимается еврей! Ну, ну…, — он махал рукой, — что ты думаешь, если мы приготовим сегодня на ужин яичницу из шести яиц, а?
— Я не против, но где мы возьмем яйца?
Дедушка высовывал язык и поднимал кверху палец.
— В этом-то и весь вопрос. Ты печальный мальчик, Хаимке, ты не любишь парить над этой землей. Любой дурак может сделать яичницу из шести яиц, когда есть шесть яиц. Я тебя приглашаю к Талмудической дискуссии, как приготовить яичницу из шести яиц, когда нет ни одного.
И мы начинали беседу, где дед рассказывал мне о Бал-Шем-Тове, как тот гулял в польских лесах, как приходил в транс, слушая пение ручьев или соловья, о Нахмане из Брацлава и о Менделе из Коцка, и где не было ни слова ни о яйцах, ни о яичнице. Талмудические дискуссии кончались обычно хлебом, который мы макали в подсолнечное масло и закусывали луком. Я ел это с отвращением, дед — наслаждался.