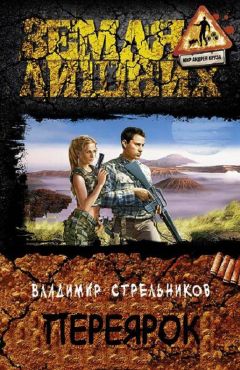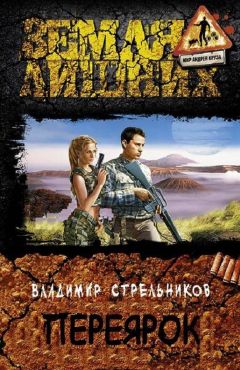А он:
– Я тут музей сделаю.
А сам глаза прячет.
Развесили лук по избе.
Картошку нашли в подполе.
За водой сбегали.
Машину во двор закатили.
Из багажника вынули две банки тушенки – неприкосновенный запас.
И всё молчком, как чужие.
Будто не шли дружно, не свистели согласно, не тянули одну лямку.
– Тебе не понять, – сказал наконец мой друг. – Я в этой избе, может, родился. Может, я в ней всегда жил. Умру, может, в ней.
– А я?
– А ты нет.
– Где нам... – говорю.
Присвистнул для проверки, – вдруг откликнется?
– Не свисти, – строго сказал он. – От свиста дом пустеет.
И я пошел за дровами.
4
Горели поленья в печи.
Гуд шел ровный.
Теплом дышало наружу.
Горьким дымком.
Картошкой из чугуна.
Березовые поленья сгорали, как напоказ, дружно и весело, постреливая и пофыркивая с торцов во славу огня и света.
Мой озабоченный друг бродил по участку, осматривая и учитывая обретенные владения, а я сидел на табуретке посреди избы и глядел в огонь.
Легко. Грустно. Одиноко.
Печь топлю. Картошку варю. Мысли коплю.
При сухом и сырое горит.
Господи! Господи мой милый! Мне так хорошо в этом месте, в этом моем возрасте, в этих ощущениях и отношениях с миром, – так зачем же отсюда уходить куда-то? Где и место будет иное, и возраст иной, и ощущения с отношениями. Не хочу лучшего, не прошу разного, не желаю меняться, Господи! Оставь меня тут, теперь, одного, в тихости и благости, а они пусть уходят, все пусть уходят, – лишь бы дрова горели, да картошка варилась, да табурет стоял посреди избы. Уходите уже, уходите! Я остаюсь один: здесь, теперь, такой.
Но дверь уже заскрипела, отворяясь.
– Идем, – сказал с порога мой озабоченный друг. – На чердак полезем.
Я дрогнул.
Дрова прогорели. Картошка уварилась. Угли пошли тускнеть и рассыпаться в золу.
– Лезь сам, – сказал я недружелюбно.
– Да я лез! – закричал. – Глаза порошит.
– Закрывай.
– Да я закрывал! Ноги заплетает.
– Расплетай.
– Да я расплетал! Лестницу отпихивает.
– Кто? – говорю.
А он – шепотом:
– Домовик...
Встал. Вытащил чугун из печи. Слил воду. Растолок картошку. Вывалил туда тушенку, обе банки. Умял старательно. Крышкой прикрыл. Преть поставил к углям. Заслонку задвинул. На друга взглянул.
– Пошли, – говорит. – Двоих не тронет.
– Пошли, – говорю.
Вышли в сени.
Примерились.
Полезли по приставной лестнице.
Головы сунули на чердак.
Свет из окна. Воздух прогретый. Сушь пороховая. Пол на уровне глаз. Пыль. Стружка. Помет мелкокрупчатый.
– Видал?
– Это, – говорю, – мышиный.
А он – шепотом и с почтением:
– Как сказать...
Вылезли на чердак – и обомлели.
Богатство! Старинушка! Диво дивное!
Бегали. Вскрикивали. Рылись. Ворошили. Отодвигали и переворачивали. Головы теряли от находок.
Прялку нашли – киноварную, в розах. Самовар конусом – без краника, но с медалями. Дугу упряжную, расписную. Сундук в обручах. Светец под лучину. Фонарь под свечу. Лампу под керосин. Улей, из колоды рубленый: лётка – ртом разинутым. Кузовок, ботало, короб из луба, ведерко берестяное. Замок амбарный, литой, размеров устрашающих, с крышечкой на ключевине. Ключ к нему, как от завоеванной крепости.
– Ах! – закричал мой друг. – Ах-ах! В город свезу. На стены повешу. По углам расставлю. Хвастаться буду!
Как ветерок шелестнул понизу.
Пылью сыпнуло в глаза.
– Не, – закричал. – Тут оставлю. С места не трону. Как есть, так и будет!
Библию нашли, мышами погрызанную. Рамочки узорные, без фотографий. Пузатое стекло ламповое – с вензелями. Иконку, к брусу прислоненную. Складни медные с ликами затертыми. Вязочку старых документов с гербовыми печатями и завитушками писарей. Фотографии: строем, навытяжку, вытаращенными глазами на нас, похитителей.
– Это моё, – сказал расслабленно мой ублаженный друг и уселся на пол посреди богатства. – Это я всё купил. Вместе с избой.
– Никто и не спорит, – говорю с обидой.
И к окну отошел. К заговоренному.
Стою, стыну, тоской наливаюсь, лбом липну к прогретому стеклу.
Как путь свой увидел: теперь и надолго.
Поле на километры – увалистой желтизной.
Дорогу от деревни – увилистой лентой.
Через лес. Через реку. Через пространства непролазные. В дальние дали, за закругления земли.
Зовите меня – Пришей-Пристебай.
Зовите меня – Ваша Невезучесть.
Человек, Перед Которым Закрываются Двери, – так теперь зовите меня.
Не мне и не мое.
– Я тут теперь спать буду, – сказал счастливо мой ублаженный друг. – Проснусь, погляжу, рукой трону, – дальше засну.
Спустился по лестнице.
Вышел со двора.
Прошел по улице пяток домов, до чьей-то калитки заколоченной.
На лавочке напротив сидел мальчонка в картузе, внимательно глядел в миску с водой.
Перешел дорогу. Сел рядом. В миску заглянул.
На дне лежала сырая картошка.
– Ты чего это? – говорю.
Не отвечает. Разглядывает терпеливо. Дышит затаенно.
Глянула из окна женщина – вида городского, поздоровалась, сказала со смешком:
– С рук не сходит. Намучалась. Сиди, говорю, жди, когда картошка всплывет. Он и сидит смирно.
– Вы, – говорю, – кто? Дачники?
– Не, – говорит. – Мы тут дом купили.
Сидим вместе: я и мальчонка. Он глядит в воду, я на дом напротив, пустой, заколоченный, под продажу готовый. Амбар при доме. Хлев. Скворечник на шесте. Яблони с грушами. Дров – поленница. Подсолнух у забора голову опустил, как задумался. Пойди да купи.
Мальчонка сидит, и я сижу.
Зачарованные.
Завороженные.
Когда же она всплывет, наша долгожданная картошка?
Встал. Перешел дорогу. Приподнял подсолнух.
Всё поклевано птицами.
5
Бежал по деревне Сергей-облапоха, волок на отлете тяжеленную канистру с промятыми боками.
– Я мигом, – кричал. – Я бегом! В Грибановке водки не было! Я – в Анашкино. И там нету! Я в Шурино, я в Сосновку, я в Глубокое – на пивзавод. Взад-назад двадцать верст. Вот он я, туточки, – залил по горлышко!
– А канистра откуда?
– Из-под бензину. Мужики дали. Но я сполоснул...
Запах гулял по избе.
Смачный, мясной, уваристый.
Запах притомившейся картошки с говяжьей тушенкой.
Живот подтянуло к ребрам. Слюну выжало. Кишки перекрутило узлом.
– Дразнится... – сказал Сергей и потянул носом. – Я мигом! Я за гостинцами.
Убежал куда-то.
А я стол вытер. Табурет придвинул. Тарелки сыскал с ложками. Сел с уголка.
Спустился с чердака мой ублаженный друг, босиком, рубаха поверх штанов, сглотнул с удовольствием:
– Много едим. День нынче обжорный. Это хорошо.
Но я не ответил.
– Картошки запасу. Капусты квашеной. Масла постного. Дрова есть. Соль-спички куплю. Чего еще надо?
И опять я не ответил, только задышал шумно.
Спохватился:
– Ты ко мне приезжать будешь. Кой-когда. По большим праздникам.
– Не буду я к тебе приезжать, – сказал я с обидой. – Я себе свою куплю. Почище этой.
Изумился:
– Тебе-то на кой?..
Уязвил до слез.
Прибежал Сергей: гостинцами полны руки.
Белая рубаха под пиджаком. У воротничка уголки вместе. Волосы намочены и приглажены на сторону.
– Вот он я, мужики!
Сели. Помолчали. Стол оценили.
Канистра с пивом. Чугун с картошкой. Лук хрупчатый. Огурцы. Грибки – рыжики. Меду миска. Можно начинать.
– А пить из чего?
Огляделись.
– А из кринок.
Сдвинули. Разлили. Чмокнули в предвкушении.
– Это по какому же праву вы тут гуляете? – с угрозой спросил от порога дур-человек.
Был он теперь при шляпе. С топором. Глаз щурил официально. Для устрашения и солидности.
– Садитесь, – говорим. – Присоединяйтесь. Вот и вам кринка.
– Не нуждаемся, – говорит. – Избу чужую заняли и гуляют. Будет доложено куда надо.
– Петя, – по-доброму попросил Сергей. – Не лупись, Петя. Сядь лучше за стол, выпей с народом.
– У народа, – ответил оскорбленно, – крыши над головой нету. Народ от дожжей страдает.
И вышел из избы.
– Чтоб те дожжю, – пожелал Сергей, – да в толстую вожжу!
С тем и выпили.
Хорошее пиво, свежее, пахучее, хмельное: в городе такого нет. И картошечка не хуже: сочная, разваристая, с жирком да с парком, – на газу так не уварить. И огурчики малосольные. И грибочки хрустящие. И компания что надо.
– Медку покушайте.
Покушали и медку.
– Зря вы так, – сказал благодушно мой ублаженный друг. – Без крыши всякому плохо.
– Да я! – вскинулся Сергей. – Да с радостью! Всей деревне перекрывал! Лучше меня и плотника нету! Я тебе честно скажу: руки отпали, душа не лежит. Изба у него – гниль расщелястая, венцы сопрели, брус спарился, – на дрова раскатать, и только...