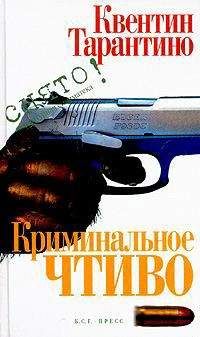Наказ бывалого охранника
Мир стоит на понятиях,
А не дохлых китах —
Водка душит в объятиях,
Исчезая в устах.
Она жмётся и ластится,
Но, в итоге, не даст.
Лишь глазёнки замаслятся,
Оберёт и продаст.
Распрощаешься с дружбою,
Разведёшься с женой,
Распростишься со службою,
Сходишь в суд окружной.
Одичаешь, обносишься,
Провоняешь козлом,
Наблюёшь, пропоносишься
И опухнешь грызлом.
Подерёшься, полаешься,
Дашь начальству дрозда,
Попадёшься, сломаешься
Или съедешь с глузда.
А на всех предприятиях,
Всех складах и цехах
Водка душит в объятиях,
Пропадая в губах.
И пусть будет паршиво вам,
Я замечу одно —
Дело тащит за шиворот,
Зелье тянет на дно.
Ты в дрова не складируйся,
Не чуди, не бузи,
А пойди, закодируйся —
Новый файл загрузи.
Будет жизнь не отважная,
Но зато без венков.
Это — самое важное!
Это — без дураков!
Николай Петрович вспомнил своего дедушку, который любил говаривать, разговевшись стаканом самогонки: «Запомни, Колька, пьянка — дело хорошее, пока она не регулярна. Хочешь покоптить подольше — не пей два дня подряд и не живи с двумя бабами одновременно». Дед протянул девяносто пять лет, документально, долголетием, зафиксировав свои премудрые тезисы. И Зелепукин разразился новым стихотворением, чтобы окончательно наставить подрастающее поколение на путь истинный.
Советы бывалого охранника
Пьянка ловит на живца
Нашу молодёжь.
С бодуна не пей пивца —
В штопор упадёшь.
Если давечь намешал —
Жди с утра угар.
И запомни — анаша
Множит перегар.
Самого себя ругай,
Что мордень в крови.
Унитаз свой попугай,
Карму обнови.
Припади на плитку лбом.
Да подумай, пёс!
Разве тут торчал столбом,
Кабы был тверёз?!
Предки мудро говорят:
Старшим не груби,
Не бухай два дня подряд,
Баб двух не е-и.
Не части, переборща,
Не круши вещей,
Съешь тарелочку борща
Или кислых щей.
Выпей квас или рассол,
Редькою зажуй,
А припрёт — глодай мосол,
Ты же не буржуй.
Стрескай лук или чеснок,
Кофе разгрызи.
Даже если валит с ног,
Ближних не грузи.
С похмела не тронь турник,
Штангу не тягай.
Коли спирт в мочу проник,
Снова порыгай.
С похмелюги не кури —
Сердце береги.
Не быкуй и не дури,
Не мети пурги.
Приложи на темя лёд,
Брызни от души.
Да, смотри, не лезь вперёд,
В сторону дыши.
Капни в глазы «нафтизин» —
Краснота сойдёт.
Ну, а если ты грузин,
То и так сойдёт.
Нацепи на нос очки,
Галстук повяжи,
Прилижи волос пучки,
Чубчик уложи.
Что творил, не вспоминай —
Ран не береди.
Лист капустный уминай,
Морсу наведи.
Да поменьше восклицай,
Что ты с бодуна!
Слопай «антиполицай»,
Как и вся страна!
Николай Петрович ещё долго бы перечислял способы борьбы с похмельем, но через проходную повалил народ с вечерней смены. Через два часа Зелепукин опять заглянул в каптёрку, Макс храпел так, что уши закладывало. Николай Петрович потрепал Новикова за плечо, тот открыл глаза, но взгляд его был таким остекленевшим и неодушевлённым, что Зелепукин сообразил — дорабатывать смену ему предстоит в одинаре. «Ну, Макс, ну, погоди», — мстительно подумал Зелепукин, — «я тебе устрою вечер воспоминаний». Он решил прибегнуть к излюбленному приёму своей жены, возведя подвиги Новикова в геометрическую прогрессию. В шесть утра Николай Петрович проснулся от барабанного стука в дверь, это очнувшийся острожник ломился на волю.
— Ты помнишь, пьяная скотина, как вчера в ведро для мусора отлил? — начал допрос хмурый Зелепукин.
— Я?! — Максимка побледнел.
— Ты.
— Не может быть!
— А как инкассатору по уху съездил и нос ему расквасил?
— Я?!! — Максимка позеленел.
— Ты.
— Петрович, ты гонишь!!!
— А как достал свой писюн и при всех стал измерять рулеткой?
— Я?!!! — зашёлся в истерике Новиков.
— Ну, не я же.
В помещении повисла надгробная пауза.
— Трындишь ты всё, Петрович, шутки шутишь, — облегчённо рассмеялся Новиков, — пробивоны мне устраиваешь.
— В натуре, так оно всё и было.
— Не помню, значит, не было, — Макс оглушающе икнул и нацедил себе стопку водки.
— Видишь ли, Максимка, пьяный охранник — то же самое, что священник педофил, вещи несовместные.
— Кто бы говорил.
— Посмотри на меня, — приосанился Николай Петрович, — я уже неделю в глухой завязке. Хочешь телефон нарколога тебе дам? Закодируешься, человеком станешь.
— Пошёл ты! — окрысился Новиков, — ещё недавно сам зажигал, а теперь, видишь ли, проповедником заделался.
Зелепукин махнул на соратника рукой и принялся, готовить завтрак.
Давай, полопаем, у тебя же вчера за весь день крошки во рту не было. Ну, что, тебе, Максимка, чаю, кофе?
— А у меня с собой бы-ы-ыло, — дурашливо хихикнул Новиков, доставая из рюкзака третью бутылку водки.
Зелепукин выругался и поплёлся, смотреть график — с кем он дежурит следующие сутки. В соответствующей графе значилась фамилия Новиков.
Жизнь — это неудержимое скатывание вниз по ледяной горке. И чем больше вам лет, тем стремительнее скольжение. Существует единственный способ притормозить время. «Какой же»? — спросите вы. Путешествия, путешествия и ещё раз путешествия. В них время замирает и буксует, удлиняется и растягивается, вмещая в один час приключений больше, чем за год жизни дома. А какие остаются впечатления — у-у-ух, уму непостижимо.
Вы идёте себе по Мадриду, а солнце катится по черепичным крышам, как Колобок по пригоркам, на мостовых спят бродяги, а цвет лица у них лучше, чем у московских артистов. И даже птицы щебечут беззаботнее, и даже продавцы магазинов, где вы ничего не купили, не шипят вам вслед, проклиная вас и всю вашу родню до седьмого колена, а нежно и томительно мурлычут: «Adios».
Или вы гуляете по Равенне и отчётливо понимаете, что это единственный город на земле, где вы хотели бы встретить старость.
Или вы бредёте по Вене, а потом заходите в старинное кафе, заказываете себе штрудель, кофе и, остаётесь в нём на целый день. Действительно, зачем вам гулять по городу, пусть лучше город гуляет вокруг вас.
Я вот что подумал — если в человеческой жизни и есть смысл, то он, прежде всего, в путешествиях. Я не нашёл его ни в карьере, ни в богатстве, ни в творчестве, ни в патриотизме, ни в горе, ни в радости; только в перемене мест.
О чём это я? Извините, заболтался. Хотел рассказать о превратностях славы, а получилось чёрти что. Когда ты колесишь по белому свету, у тебя скапливается так много впечатлений, что их необходимо куда-то складировать и скирдовать. Можно писать рассказы, можно фотографировать, Лёня же заделался живописцем. Сначала у него получалось так себе, но Куприянов был талантлив во всём, за что брался, и его мастерство росло, как на дрожжах. Увы, Россия не лучшее место для пейзажей, у нас слишком мало света, и картины получаются излишне тёмными и депрессивными. Смотришь, допустим, на картину «Осенний лес» и думаешь — а вон, та берёза, на которой художник, непременно, повесится, когда исполнит последний мазок. Потом выясняется, что живописец, на самом деле, отпетый весельчак и гуляка, но с климатом ему явно не подфартило. И картины его не берут, ну, не берут, хоть тресни. И правильно делают — нам чужой тоски не надо, нам своей девать некуда. А с лёниных картин на зрителя стекало столько солнечного света, что в нём можно было захлебнуться. Люди смотрели на его живопись и переносились в те места, где правила бал светотень, но тени было мало, зато света, хоть отбавляй. С куприяновских картин в глаза било южное солнце, дул морской бриз и слышался плеск волн. «Да с твоими картинами никакого курорта не надо», — шутили друганы, — «смотришь на них, и как будто на пляже загораешь».
И всё бы хорошо, но не было у Лёни славы, а художник без славы, что расстегай без начинки — всего лишь тесто, безвкусное и пресное. А как Куприянову хотелось погреться в нежных лучах славы, как хотелось, да, видать, не судьба. От этих грустных мыслей и решил Лёня сгонять, проветриться в Париж — столицу художников и влюблённых.