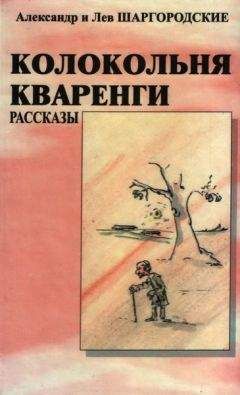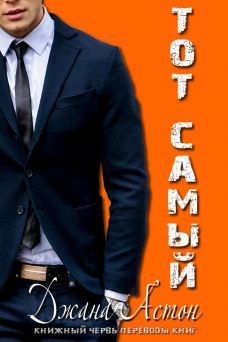Затем он раздавал подарки и, наконец, доставал свернутую папирусом бумагу.
— Диплом высшей партийной школы, — произносил он, — Дмитрий Яковлевич просил повесить в рамочку.
Затем полковник щелкал каблуками и вылетал в окно, — в бледно-голубое ленинградское небо.
«Под солнцем родины мы крепнем год от года», — доносилось оттуда.
На стенах новой квартиры красовалось немало моих дипломов, и все с отличием.
Сталин одарил меня личной машиной, двумя медалями и орденом.
— Будэшь пысать в том же духэ — представим тэбя к Сталынской прэмыи по лытыратурэ, — пообещал он.
Однажды в столовой партийного архива я встретил Цукельперчика. Он полысел, костюм был несколько потерт, как, впрочем, и сама рожа.
Цукельперчик жадно ел сметану. Стакан за стаканом. И облизывался, как кот. 16 стаканов съел Цукельперчик.
— Не хотите ль отведать? — предлагал он мне. — Базарная, жирная!
— Спасибо! — отвечал я. — Я взял отбивную.
— Свинина не совсем еврейская пища, — в его глазах горел дьявольский огонь, — а сметанка наоборот — вполне еврейская еда. Раньше в местечке не было дома, где бы не ели сметанки.
Я почувствовал недоброе.
— Я ее не люблю, — ответил я.
— А зря, зря, надо кушать сметанку, со сметанкой человек становится больше. А если человек не становится больше, он становится меньше, не правда ли?
Голос его был полон сарказма.
— Что вы хотите сказать, Цукельперчик? — спросил я.
— Сейчас я съем семнадцатый стакан и отвечу.
Он вылизал все содержимое, вытерся салфеткой:
— А то, май таэре рэбе, что когда вы подпрыгиваете от радости, смотрите, чтобы кто-нибудь не выбил у вас из под ног землю!
Он поднялся и пошел, грозно неся на подносе 17 грязных стаканов.
Не знаю, почему, но я начал ждать недоброго.
Вскоре, когда я зачитывал вождю «его» очередной доклад, на сталинской даче появился Цукельперчик. Он вежливо слушал мое чтение. Вождь восхищался своими мыслями.
— Неплохо, неплохо, — говорил он. — «Закон разрешает человеку быть глупым, если это ему нравится!» Метко сказано! Афористично. И точно! — Кинжал в сердце врага! Кто, кроме меня, может так сказать?
Фраза была философской. Сталин обращался как бы сам к себе. И тут выступил Цукельперчик.
— Никто, — сказал он, — никто не может так сказать, дорогой Иосиф Виссарионович. Но эту фразу произнесли не вы.
Я понял, что Цукельперчик пришел меня зарезать.
Сталин не повел и бровью.
— Подойдите! — сказал он и выбил на голову Цукельперчика пепел горячей трубки. — Значыт, эту фразу сказал нэ я? А кто?
— Еврей, — сказал Цукельперчик, — английский еврей Нессел.
— Нессел? — задумчиво произнес Сталин и вновь стал выколачивать трубку о мудрую голову Цукельперчика. — Английский еврей Нессел… Хорошо, а это? — «Видимое — временно, невидимое — вечно» тоже написал английский еврей?!
В глазах тирана вспыхнуло два костра.
— Нет, не английский, — дрожа, ответил Цукельперчик. — Испанский. Иегуда Галеви из Кордовы!
Сталин продолжал стучать трубкой по башке Цукельперчика.
Странный звук, напоминавший стук топора дровосека, летал по даче.
— А какой еврей написал «Если человек не покоряет пустыню, пустыня покоряет человека?»
— Иерусалимский, — ответил Цукельперчик. — Гилель, второй век до нашей эры.
— Пес! — вскричал Сталин. Гилель второй век!!! Ее произнес я! Первый съезд советов! Петроград! Семнадцатый год!
Цукельперчик стал бледен. Он чувствовал, как падало давление, гемоглобин, отказывала печень.
— Подлый пес! — рычал Сталин. — Может, по-твоему «Какой мир у гиены с собакою — такой мир у богатого с бедным» — тоже не мое?!!
Видимо, у Цукельперчика наступил паралич мозга.
— Не ваше, — сказал он. — Бен-Сира, Палестина, второй век до нашей эры.
— Палестина?!! — взревел вождь.
— Дорогой Иосиф Виссарионович, — Цукельперчик рухнул на колени.
— Этот мальчишка, — он указал на меня, — плетет вокруг вас сионистский заговор.
— Пес! Не пугай меня! — Сталин водрузил свой сапог на ухо мудреца.
— Великий Сталин не боится никаких заговоров! — Ни троцкистских, ни бухаринских, ни сионистских! Все жиды, которых ты перечислил, стащили мои мысли, поганый пес!
— Но они жили до вас, Иосиф Виссарионович.
— Собака, какое это имеет значение. Мои мысли тащили до меня — их будут тащить и после…
Сталин носком сапога опрокинул Цукельперчика, подошел к окну и долго смотрел в сад. Страшная тишина висела в комнате.
— Товарищ Цукельперчик, — неожиданно нежно спросил он, — вы любите грушу? Молодую, стройную, сочную?
— Очень, дорогой Иосиф Виссарионович, — растроганно ответил Цукельперчик, — с детства…
…Через полчаса Цукельперчик висел на груше.
Сталин сидел в кресле, дымил и задумчиво глядел на раскачивающегося Цукельперчика.
— Если человек что-то любит, — произнес он, — надо для него это сделать. Чего бы это тебе ни стоило. Неплохо сказано, а?!
Он повернулся ко мне: — Или как там я однажды сказал: «Не потому ли евреев считают выше других, что я их часто вешаю?»
Он рассмеялся.
…Я продолжал писать доклады, зная, что в конце пути меня ждет такая же ветка. Груша постоянно стояла перед моими глазами.
В моих снах я часто висел на ней рядом с Цукельперчиком.
— Не хотите ли сметанки? — почему-то спрашивал Цукельперчик, и я просыпался в поту.
— Такой молодой, а уже высит, — иногда говорил Цукельперчик с кавказским акцентом и печально качал головой.
Я ждал груши. Но человек ничего не знает.
Вскоре Сталин умер.
Пришло облегчение. Мне теперь казалось, что мои фокусы не обнаружат. Ветка груши как-то отдалилась. Я жил в ожидании. День, два. На третий мне заказали некролог. В нем я использовал мысли Шамая и Менделе из Коцка. В надгробной речи, которую мне заказали тут же, было уже больше изречений ребе из Люблина.
Затем пришел новый правитель — толстый, розовый, с сильным хохлацким акцентом, и я начал писать для него. Он был так похож на старого хряка, вывалявшегося в луже где-нибудь под Полтавой, что ни одна фраза еврейского мыслителя просто не влезала в его уста, и я начал писать дубовыми фразами нашего партийного языка.
— Дорогие товарищи! Выше знамя пролетарского интернационализма!
— Догоним и перегоним Америку по мясу и молоку!
— Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!
И прочую муть.
Однажды Мыкыта-правитель вызвал меня к себе на дачу, ту самую, где когда-то жил Сталин. Была поздняя осень. В окне одиноко стояла облетевшая груша. Я отвел глаза.
В комнате сидел скромный мальчик, аккуратно сложив руки на коленях. На столе перед Мыкытой лежала раскрытая ученическая тетрадь.
— Здровеньки булы, Дмитро, — рявкнул правитель, — а ну, познакомься, он кивнул стриженой башкой в сторону мальчика, — Виталька!
Мальчик встал и вежливо пожал мне руку.
— Кажи, Дмитро, сколько годин ты пишешь мне речи, — Мыкыта громко высморкался.
— Три годины, — ответил я.
— Меньше пятилетки, — заметил правитель.
Я вздрогнул. Что-то эта сцена начинала мне напоминать.
— Кажи-ка мне, Дмитро, — продолжал правитель, — почемуй-то, як ты мои мысли излагаешь — воне словно поросята бездомные — хилы и жидки, а як вон этот хлопец их мовит — воне, словно молодой кабанчик, свежи и игристы.
Я вспомнил, что мне напоминала эта сцена. Из окна смотрел опустелый сад. Я увидел голую грушу. Она мне приветственно кивала своей веткой.
— Кажи, старый хряк, — Мыкыта задорно щипнул меня за живот, — ты откедова берешь мои думы?
— Из полного вашего собрания сочинений, — ответил я.
— Врешь, свин! Ты их выдумываешь! На, — протянул мне ученическую тетрадь, — ознакомься с моими настоящими думами, широкими, як Днипро, и глубокими, як Черное море.
Я взял тетрадь. Это было школьное сочинение.
«Если ты не становишся больше — ты становишся меньше» — стояло в эпиграфе. Это была мысль Гилеля, но под эпиграфом жирно красовалось «Мыкыта». Сочинение было полно изречений великих еврейских философов, вложенных в уста хохлацкого порося. Я знал каждую из них.
— Да, — согласился я, — мысли широкие, як Днипро, и глубокие, як Черное море.
— Разумиешь, — Мыкыта рыгнул, — гей до хаты! Займешься партийным архивом.
Груша продолжала приветственно махать.
— Привет, — сказал я, — скоро я буду на тебе раскачиваться…
Человек ничего не знает. Я ошибся — груша так и осталась голой.
Меня не повесили — украинский правитель был более мягкого нрава, а, может, изменилось время, и на груше висеть было уже как-то неудобно. Не знаю — меня выгнали. Я стал свободен. И поехал в Ленинград…