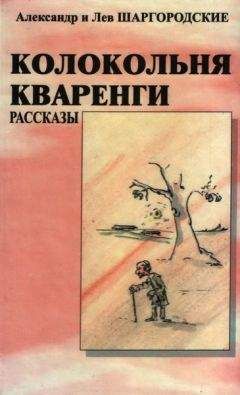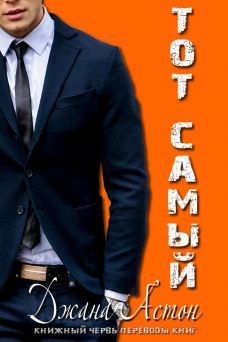Я подписал сочинение, сдал его, и, радостный, побежал по весенним лужам.
Дома я все поведал деду. Он долго молчал, расчесывая рукой бороду. Потом взял узелок и начал складывать туда разные вещи — книгу, зубную щетку, носки.
— Что ты делаешь, дедушка? — спросил я.
— Ты слышишь стук колес? — спросил он.
— Да.
— Так это не мама с папой — это за нами! Я тебе говорил, что хассиды веселы и радостны, но я тебе никогда не говорил, что они идиоты. Представь, что будет, когда ганефу доложат, что он балакает с еврейским акцентом? Сколько евреев, по-твоему, он должен съесть, чтобы начать картавить? Два! Тебя и меня. Цорес висит над нами, Хаимке, мы должны отнестись к этому очень серьезно, о-очень, но… не унывать. Подай-ка мне твою маечку. И где твое теплое белье?
Дедушка вновь начал складывать узелок — кальсоны, бутылку подсолнечного, пару луковиц.
— А теперь давай потанцуем! Почему не порадоваться, пока их нет.
Всю ночь мы танцевали. За нами никто не пришел. Мы танцевали и назавтра, и послезавтра, мы проплясали целую неделю — пили, ели мы самые вкусные вещи, которые тогда можно было достать.
— Возрадуемся, пока нет этих ганефов, — говорил дед. — Споем все песни, станцуем все танцы и выпьем все вино…
Он пригласил знакомых хассидов с Фонтанки, и все началось заново. Сейчас, вспоминая эту неделю, я думаю, что это было самое веселое время моей жизни…
Наконец, в дверь позвонили.
— Ну, вот и все, — сказал дед, — поедем в тюрьму с веселым сердцем.
Я открыл. На пороге стояли учителя моей школы во главе с директором. Все они расплывались в сладких улыбках. Директор натянул на меня какой-то венок, химичка целовала, биолог просил автограф. Я ничего не понимал.
Из-за спин они достали вдруг букеты свежих цветов, и я оказался заваленным хризантемами, сиренью и гладиолусами… Затем они выстроились в ряд и звонко запели.
«Сталин наша слава боевая, — выводил сводный хор педагогов, — Сталин нашей юности полет…».
Они исполнили несколько песен о вожде и одну балладу.
Затем они оставили грамоту и, поцеловав меня в уста, ушли.
Я развернул грамоту: под огромным портретом Сталина было напечатано, что мое сочинение заняло первое место на городском конкурсе работ, посвященных произведениям Иосифа Виссарионовича.
Я не успел дочитать — раскрылись двери — пришел фотограф из газеты, он долго снимал меня, его сменили журналисты — до ночи я давал интервью.
Наконец, все умолкло. Пришла ночь. В окно залезла луна. Я сидел в, ее свете и ничего не понимал.
Дед сипел на стуле и жевал хлеб.
— Я тебя учил всегда ждать радости или нет? — спросил он.
— Да, — ответил я.
— Что ждешь, то и происходит.
— Я ничего не понимаю, дедушка.
— Чего здесь понимать?! — дед гладил бороду. — Ты не читал этого ганефа. Никто в этой стране его не читал. Поэтому всем мысли твои понравились, и я боюсь, чтоб они не понравились самому Сталину. Он сам себя не читал, Хаимке. Боюсь сказать, мне кажется, он сам себя и не писал. Успокойся и иди спать — мы останемся на воле, — он начал развязывать узелки:
— Нет покоя в этой стране. Я здесь живу скоро 80 лет — и я то складываю узелок, то распаковываю… Ах, как мы с тобой провели эту недельку, я был хассидом, а теперь я снова пенсионер…
…Чествования мои продолжались. Я выступал по радио, отвечал на звонки, получал приветственные телеграммы. У меня было ощущение, что все это кончится плохо…
Однажды, когда я шел по Владимирскому, у той самой колокольни Кваренги, затормозила черная «Волга», меня втолкнули вовнутрь, натянули на глаза повязку и приказали молчать. Мы ехали долго. Потом меня вывели, подняли по какому-то трапу, заурчали моторы, и я понял, что это самолет. Летели мы часа два. Мне дали лимонад и картошку со свиной тушенкой. Я не волновался, дедушкино «Ныт гедайге» звучало в моих ушах, я только беспокоился за деда — как он будет там один, кто поднимет дрова, кто принесет лапшу, кому он будет читать своих философов.
Самолет приземлился, меня опять засунули в машину, повезли, затем она затормозила, звучали какие-то непонятные голоса, раздавались приказы, щелкали сапоги, меня ввели в какой-то кабинет, где густо пахло табаком, и усадили на кожаный диван. Он весь поскрипывал.
Я тихо сидел с повязкой на глазах, вдыхая пряный запах диковинного курева.
Кто-то подошел ко мне сзади и поцеловал в затылок. Острые усы кольнули меня. Я стал теряться в догадках, кто бы это мог быть, как маску внезапно сорвали, и передо мной предстал великий вождь и учитель.
Он улыбался.
— Выдымое временно, — мягко проговорил вождь, — нэвыдымое — вэчно. А, как сказано? Ты, малчык, собрал воэдыно всэ маи лучшые мыслы, и когда я пэрэчытал сыбя, я вновь понял, что я мудр. Я прав, малчык?
— Совершенно верно, — я поднялся.
— Садь. Сколько раз в дэнь ты учышь маи мыслы?
— Три, — соврал я, — утром, днем и перед сном.
— Канспектыруэшь?
— Обязательно.
— Сколько всэго маих изрыченый знаэшь?
Я прикинул все то, чему меня учил дед — от пророка Исайи до Гейне.
— Около пятисот.
— Немало, — сказал вождь, — даже товарищ Сталин столько не помнит. Генерирует, но не помнит.
Сталин затянулся трубкой, выпустил дымок.
— Мнэ нравятся маи мыслы… У меня к ным слабост, — он процитировал Гилеля: «Если человэк нэ покоряет пустыню — пустыня покоряет его». Неплохо сказал товарищ Сталин, а?..
— Мудро, — кивнул я.
— Ты не помнишь, когда она мне пришла в голову?
— После первого съезда советов, — брякнул я.
— После речи собаки Троцкого?
— Именно.
— Харашо я ему ответил, — он опять затянулся, — «Видимое временно, невыдымоэ — вечно!» А это когда?
— На втором всесоюзном съезде ботаников, — меня уже понесло.
— Маладец, малшик! Ты льешь бальзам на мое горское сердце. Напомни-ка мне кое-что из моего в таком роде.
Я задумался. Терять мне было нечего. Мыслью больше — мыслью меньше — узнай они — все равно расстреляют. Я начал искать подходящую мудрость. В голове почему-то все время крутилось «Не потому ли евреев считают богатыми, что они за все расплачиваются?» или «После исхода о свободе говорят только с еврейским акцентом». Все это как-то вождю не подходило. Наконец, я нашел у Гилеля.
— Если человек не становится больше, — произнес я, — он становится меньше.
Сталин мягко засмеялся:
— …Когда ему отрубают голову, — он с удовольствием провел ладонью по усам, — харашо сказано! Кажется, на заседании всэмырного Интернационала, 31-й год?
— Июль! — добавил я. Что мне было терять?
— Знойный июль, — сказал Сталин. — Что мне в тэбэ нравытся, малшык, то, что ты знаешь нэ просто мои мыслы, но маи лубымые мыслы. Ты их так хорошо собрал в своем сочинении, что я хочу его использовать в маей речи, посвященной Велыкому Октябрю.
— Служу Советскому Союзу, — я отдал салют. — Все ваши речи мы всегда слушали с большим вниманием.
— Пачему «слушалы»? — насторожился Сталин. — А сычас?
— Сейчас мама с папой в Сибири.
Вождь ничего не спросил, а просто что-то пометил у себя в календаре. Затем испытующе посмотрел на меня:
— Пысать хочешь?
— Что? — не понял я.
Сталин неспеша сел, положил ногу на ногу, в черных сапогах его плавала моя потерянная морда.
— Выдышь ли, малшик, — начал он, — мои мысли, которые пересказываешь ты, нравятся мне значительно больше, чем мои мысли, которые излагает Цукельперчик.
Тогда впервые я услышал эту фамилию.
Сталин взял в руки мое сочинение, прочитал что-то про себя и добавил:
— Ай да Сталин, ай да маладэц!
Затем нажал кнопку на столе: — Цукельперчика! — приказал он.
Тут же раскрылись двери, и в них влетел запыхавшийся потный еврей, в блестящих макасинах и модном западном костюме с ручкой в руках.
— Все пышешь, джигит? — спросил Сталин. Голос его был полон иронии.
— Пишу, Иосиф Виссарионович, — голос Цукельперчика был тонок и дрожал.
— К какой дате?
— К Сталинской конституции! — Цукельперчик достал листок, — вот первые наброски.
— Асади коня! — сказал Сталин. — Слишком горяч скакун под тобой. Осади! — он указал в мою сторону. — Познакомься!
— Дмитрий.
Я встал, пожал руку, она была влажной.
— Сколько пятилеток ты мне пишешь, Цукельперчик? — поинтересовался Сталин.
— Ч-четыре, — ответил тот.
— И четыре пятилетки ты излагаешь маи мыслы скучно, вяло! У лудей уши вянут, как банан в засуху. Ты сушишь мои мысли, как суховей — розу. А мои мысли, которые излагает этот малшик, свежи, как воды арыка, и глубоки, словно артезианский колодец в Кара-Кумах.
Я видел, как Цукельперчика забила лихорадка.
— Не дрожи, — сказал Сталин, — у меня в глазах рябит. Скажи лучше, откуда ты их берешь — мои мысли?