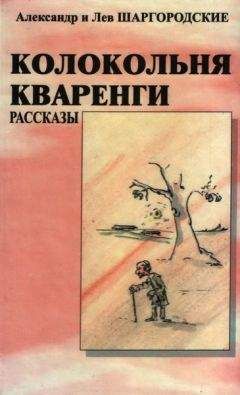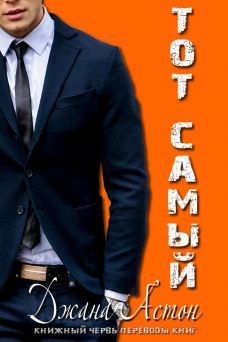— Что это — гольф, тетя Песя? — спросил Абрам.
— Так, — сказала тетя, — тебе в «гидро-метро» осталось жить недолго. Льдину гонит на айсберг.
Ректор пребывал в благодушнейшем настроении. Он решил доставить себе удовольствие — самолично написать приказ об отчислении Абрама. Он закрылся в кабинете, поставил на стол армянский коньяк, растянулся в кожаном кресле и принялся писать — так пишут поэму, так сочиняют стихи о любви.
«Исключить Абрама Левицкого, — выводил он, и бальзам орошал его сердце, — за аморальное поведение, выразившееся, — он задумался, — выразившееся, — муки творчества одолевали его, — в… изнасиловании… — нет, не поверят — …в групповом изнасиловании… — нет, не то, — в… в… совращении малолетней?» — чушь, ерунда…
Любовная поэма явно не выходила. Он бросил перо.
— Додумаю на льдине, — решил он, — там мысли чище, возвышеннее что-нибудь осенит…
И ректор укатил в далекую антарктическую экспедицию. На третий день он застрял, во льдах. Сводки с полюса были ужасны — остров трещал, кончалась пища… Радио скорбным голосом сообщало:
— Пошел девятый день голодовки…
— Сколько дней человек может жить без воды? — поинтересовалась тетя Песя.
Вся страна спасала героев. Было послано три ледокола. Вскоре они застряли во льдах. Вертолеты не заводились от холода. Самолеты на долетали. Дирижабль замерз на высоте 1400 метров. Казалось, вся страна спасала не полярников, а Абрама.
На выручку ректору ринулась студенческая экспедиция лыжников, она шла прямо по льдам. В ней принимал участие Абрам.
— Куда ты едешь, сумасшедший, — ворчала тетя Песя, — он тебя исключит прямо на льдине!
— Пошел двадцать первый день голодовки, — трагически пело радио.,
— Ты видишь, осталось немного, — говорила тетя, — и эти морды-сволочи скоро…
Спас ректора Абрам. Ректор лежал в каюте, обмороженный, и еле дышал. Когда он увидел Абрама, дыхание прекратилось. Все говорили «ледовый шок», но тетя Песя знала точный диагноз. Ректора долго не могли разморозить, а когда разморозили, оказалось, что у него отшибло память — он никак не мог вспомнить, как его зовут — Абрам или Александр?
Абрам был спасен. Он закончил «гидро-метро» и уехал в Антарктиду, Тетя Песя подарила ему на прощание теплые рукавицы.
— Кто тебе там будет готовить котлеты, — спросила она, — белый медведь?..
Абрам жил во льдах, среди моржей и тюленей, и они не интересовались его именем. Но на далеком континенте все помнили о нем. Когда «абрамы» снова стали виноваты во всем — врачи отравили вождя, учителя травили детей, физики не в ту сторону разгоняли электроны, — долго не знали, что делать с метеорологами. Наконец, Абрама обвинили в неправильном предсказании погоды, отчего в море тонули корабли, а на полях гибла пшеница.
Видимо, к ректору вернулся рассудок.
За Абрамом послали ледокол. Его ждала тюряга. Но, похоже, судьба хранила его — ледокол застрял во льдах. Абрам получил телеграмму:
«Не вздумай спасать героев-полярников. Тетя Песя».
Арест не состоялся.
Абрам жил, окруженный моржами, северным сиянием, вечным молчанием и покоем. Он забыл свое имя, и корни его были отморожены. У него родился сын. Он назвал его Иваном. Но вот чертовщина — Исаак начал душить Ивана. Они уже жили в городе, среди каналов, с видом на Неву, и сын его всюду представлялся Исааком — на корте, в бассейне, на дискотеке, гуляя с девушкой в белую ночь. Во все документы он вписывал этого проклятого Исаака, и только в паспорте, в той самой графе, где у отца когда-то красовалось «Абрам», стояло «Иван».
Сын также часто, как отец, терял паспорта, он их спускал в те же туалеты, быть может, чуть модернее, он жег их… Ему возвращали их, с огромным штрафом, с именем Иван. Отец постарел. Он перестал делать стоечки, жрать ложкой повидло и не уместился б на подоконнике любимой тети Песи. Он ничего не понимал, бедный папа.
— Что ты себе думаешь, Иван? — сказал он сыну.
— Меня зовут Исаак, — ответил тот.
— Зачем тебе это надо? — спросил отец.
— Чтоб не стать пингвином.
— Лучше быть пингвином, чем евреем, — сказал отец.
— Это потому, что ты всю жизнь провел с пингвинами.
— Благородные создания, — сказал отец.
— В пустыне не водятся пингвины, — сказал Исаак.
— Куда ты собрался? — спросил Абрам.
— Туда, где тепло, — ответил тот, — мне морды львов приятнее морд тюленей, и желтизна бархана дороже белизны айсберга.
— Что ты понимаешь в пустыне, — сказал отец, — Иван в Израиле еще хуже Абрама на льдине, одумайся, пойди лучше…
— В торговый? — спросил Исаак.
— Ты скотина! — сказал отец.
— Проснись, папа, — сказал Исаак. — Ты всю жизнь сосал лапу, как белый медведь. Жизнь твоя — зимовка! А сейчас весна. Выйди из берлоги, отец.
— Зачем? — сказал Абрам.
— Чтоб стать евреем.
— Все отморожено, — сказал тот, — поздно, все отморожено.
— Абрам стал евреем в 70! У тебя в запасе 14 лет.
— Абрам жил в пустыне, я — во льдах. Все еврейское, что было ж мне, — все замерзло.
— Там тепло, — сказал сын, — ты оттаешь…
— Я плавучая льдина, — сказал Абрам, — они плывут неизвестно куда…
Они долго молчали.
— Сколько лет жил твой Абрам? — наконец спросил отец.
— Девятьсот, — ответил сын.
— У него еще оставалось время побыть евреем… Что я там буду делать? — спросил он. — Там нету льдов, я не успел их продать.
— Там очень вкусное мороженое, — ответил Исаак.
В ЭТОТ ДЕНЬ НИГДЕ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…
Черт меня дернул рассказывать ему мифы Древней Греции. Наверное, это случилось потому, что я не знал, о чем с ним говорить. Гуляли мы редко — то я кончал пьесу, то начинал сценарий, но в основном слонялся в поисках темы, что было самым трудным, хотя все вокруг утверждали, что темы валяются под ногами.
— Оглянитесь, — говорили мне, — и вы увидите…
Я все время оглядывался и видел много тем, но их уже нашли другие, а мне хотелось найти свою… И поэтому мы прогуливались не чаще раза в месяц.
Каждый раз я не знал, о чем с ним говорить. Мы, конечно, могли бы побеседовать об Андрее Фомиче, этом дальтонике, снимающем цветные фильмы, который забодал мой очередной сценарий…
Но, во-первых, он не знал, кто этот Андрей Фомич; во-вторых, что такое дальтоник, и, в-третьих, у каждого порядочного человека впереди маячит свой Андрей Фомич — а мой сын рос порядочным…
Я не помню ни сказок, ни притч, ни былин, все это я начисто позабыл к окончанию университета, и единственное, что еще держалось в голове, это несколько моих последних пьес и два-три свежих анекдота; поэтому обращение к мифологии было вполне закономерно.
Мифологию, если быть откровенным, я тоже не знал, легко путая кто и чем из богов заведовал, кто на ком был женат и, вообще, какому богу молится… Но совсем недавно, в очереди к дантисту, от нечего делать я прочел миф о некоем Хароне, перевозившем души умерших через реку Стикс…
— Ну, мы долго будем молчать? — спросил сын. — Может быть ты мне что-нибудь расскажешь?
«Так говорить с отцом — это хамство! — подумал я. — Мы были не такими… А с другой стороны, именно такой заткнет глотку своему Андрею Ильичу… За себя и за папу!..»
— Я жду, — сказал сын.
Я откашлялся, посмотрел на него и начал. Рассказывал я плохо и сбивчиво. Я путал места и время действия, мешал в кучу Орфея, Зевса, Эвридику и Посейдона. Наконец, я замолчал. Все, что знал, я честно выдал.
Он шел рядом, время от времени заходя в лужи, и молчал.
Начиналось самое страшное — вопросы.
Я, конечно, привык отвечать на разные вопросы. Кто был автором хотя бы одной вещи, знает, какие подчас вопросы задают ему. И все-таки я побаивался.
Он остановился посреди большой лужи и спросил:
— А почему Эвридике нельзя было оглядываться?
— Немедленно выйди из лужи! — приказал я.
Это был хитрый маневр — если бы он не вышел, я бы ему ничего не ответил и молчал до самого дома. Но он, как назло, вышел.
Надо было выкручиваться.
Он стоял на сухом месте и нахально смотрел на меня. Похоже было, что он догадывается, что я не знаю, почему нельзя было оглядываться.
А, действительно, почему нельзя было оглядываться?..
— А потому, — ответил я, — что это — аллегория. Понимаешь? Настоящий человек должен смотреть вперед, только вперед. Годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад. Понял?
Он еще немного постоял, а затем вернулся в лужу.
— В чем дело? — сказал я. — Что происходит?..
— А река Стикс — глубокая? — спросил он.
— Очень, — ответил я, — очень глубокая.
— Глубже этой лужи?
— Что ты сравниваешь!
Он немного помолчал и уточнил:
— А в ней можно утонуть?