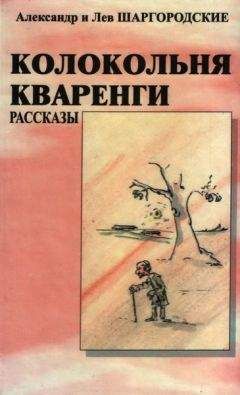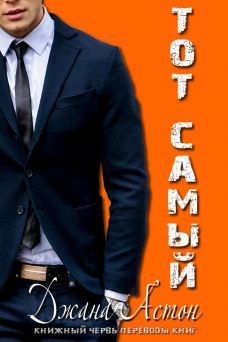Он немного помолчал и уточнил:
— А в ней можно утонуть?
— Да, — ответил я, — очень легко.
— Даже если хорошо плаваешь?
— Да, даже если очень хорошо… Такая река…
Он вышел из лужи, подошел ко мне и взял за руку.
Это было серьезно — за руку он брал в редких случаях.
«Кретин! — сказал я себе, — чего ты болтаешь?! Раз в жизни вышел пройтись с ребенком…»
Я неестественно захохотал и стал прыгать на одной ноге, периодически повторяя: «А ну, кто быстрее…»
Он смотрел на меня, как на идиота. Впрочем, наверное, на меня и нельзя было иначе смотреть.
Я еще немного попрыгал и остановился.
— Посмотри, какая собака, — тогда сказал я. — Ты наверняка не знаешь, что это за порода.
— А Харон всех умерших перевозит? — спросил он.
— Это — колли, — сказал я, — колли, шотландская овчарка! Ты же знаешь эту породу… Для чего я тебе купил атлас пород собак? Для чего?!
— И Игорька он перевез?
Я почувствовал, что он сильнее меня. Он прорвал оборону.
— Какого Игорька? — спросил я.
— Твоего братика…
Я вспомнил блокаду. Мы поили его соевым молоком. Он протянул восемь месяцев… Но откуда знает этот?..
— Откуда ты знаешь? — спросил я.
— Мне бабушка рассказала. Ты за ним ухаживал. А он умер.
— Да, — протянул я, — такое было время… Война, брат…
Я обнял его, и мы стояли и долго смотрели на лужу. В ней плавали две похожие морды, а затем появилась третья — колли. Она посмотрела на наше отражение в луже, потом на нас, потом снова на отражение и отошла — видимо, почувствовала себя лишней…
— А сейчас где-нибудь идет война? — спросил он. — Где сейчас война?
— Нигде, — сказал я и сам удивился. Действительно, в этот день нигде не было войны.
Боже мой, сколько таких дней было на земле?..
Мы опять помолчали. И тогда он вдруг произнес:
— Надо бороться за мир!
— Да, — согласился я.
— А ты борешься? — спросил он. — Расскажи, как ты борешься за мир?
Я задумался. А как я борюсь за мир?
— Я дважды подписал Стокгольмское воззвание, выступил с докладом в лектории…
— Это хорошо, — задумчиво произнес он. — Значит, войны не будет, раз ты борешься…
— Конечно, не будет, — сказал я.
— А раз не будет войны, — уточнил он, — значит, мы не умрем? Никогда не умрем, правда?
— Знаешь что, — ответил я, — лучше иди и встань посреди лужи…
Он посмотрел мне в глаза.
— Если мы будем бороться за мир, мы не умрем?..
— Видишь ли, нам уже пора домой — нас мама ждет с ужином. А ну, давай наперегонки! — И я бросился бежать.
— Значит, умрем, — констатировал он, не двигаясь с места.
— Ну и что? — сказал я, — Ну и что?! Что тебя беспокоит? Все живое умирает. И человек, и животное, и дерево…
— А мы? — спросил он. — Я, ты, бабушка?..
— Мы люди, — развел я руками.
— Это плохо, — сказал он и вздохнул. — Ну, ладно, а что потом?
— Когда потом?
— Какой ты непонятливый! — сказал он. — Ну, когда умрем, что потом?
— А-а-а…, - протянул я, — так бы сразу и говорил… Ну, что потом, потом только все и начнется…
— Расскажи, — сказал он…
«А что начнется? — в ужасе подумал я, — что только потом начнется?!»
— Видишь ли, дружок, — сказал я, — ты, возможно, этого не знаешь, но материя не исчезает и не возникает вновь! Она просто переходит из одного состояния в другое. А мы с тобой материя. Понимаешь?
— Значит, мы не исчезнем? — спросил он.
— В том-то и дело! — обрадовался я. — Понимаешь, мы просто станем травой, деревом, цветами…
Он стоял, и его веки подрагивали. На глазах появились слезы.
«Мне нельзя с ним гулять, — подумал я. — Меня нельзя подпускать к детям…»
— Почему ты расстроился? — спросил я.
— Я не хочу превратиться в крапиву, — сказал он.
— Что ты, дружок, в крапиву превращаются только очень плохие люди, такие, например, как Андрей Фомич.
Он молчал.
— Скажи, а Харон перевозит через реку на простой лодке, на совсем простой?
— Что ты, — замахал я руками, — на какой простой?! На моторной!
Глаза его заблестели.
— На моторной?!!
— Ну да! С двумя моторами. Представляешь, с двумя моторами! Даже с тремя!
Он развел руки и побежал. Он бежал по лужам, и разноцветные брызги летели в стороны…
— Догоняй! — кричал он.
Мы носились по лужам, в которых плескалось красное вечернее солнце, и жизнь казалась вечной.
Вернулись мы мокрыми с ног до головы, и, когда ели блинчики с черникой, он сказал:
— А знаешь, мама, кого мы сегодня встретили в парке? Колли! Огромного рыжего колли!..
Прозвенел третий звонок, и фойе опустело.
Семенов последний раз затянулся и хотел уже бросить сигарету, как вдруг услышал:
— Разрешите прикурить.
Он поднял глаза и увидел средних лет мужчину с лицом человека, только что вырвавшегося на свободу.
— Пожалуйста, — сказал Семенов.
— Тоже мучаетесь? — сочувственно произнес мужчина. — Как это люди такую дрянь пишут?
Семенов вздрогнул — он являлся автором пьесы. Это была его шестая пьеса и, как ему казалось, интересно поставленная.
— Вы так считаете? — спросил он.
— Как будто вы иного мнения, — сказал мужчина. — Я б ушел вообще. Жена досматривает. Вы, наверное, тоже супругу в зале бросили?
— Нет, я один, — ответил Семенов.
— Так чего вы торчите?
— Вы считаете, что мне следует уйти? — нерешительно спросил Семенов.
— Я считаю, что такое надо запить, — сказал мужчина, — для восстановления равновесия. Пойдемте по чашечке кофе, а?
Они прошли в буфет.
— Здравствуйте, Федор Аполлинарьевич, — улыбнулась буфетчица.
— Вы, никак, завсегдатай? — удивился мужчина.
— Нет, так, одна знакомая, — ответил Семенов.
— Понятно, — протянул мужчина и взял коньяку.
— Такую муру коньяком заливать надо. И то — «КВ»… Не ниже, никак не ниже. Какое счастье, что мы с вами на свободе. Я вам честно скажу, почему я иногда хожу в театр — чтобы сбежать! И почувствовать себя свободным. Это же страшно представить — тысяча человек сейчас мучаются и потеют.
— Тысяча сто шестнадцать, — поправил Семенов.
Он точно знал количество зрителей, поскольку от этого зависел его заработок.
— Буфетчица сказала? — подмигнул мужчина. — Нет, вы знаете, я бы все-таки хотел взглянуть на автора.
Семенов инстинктивно отвернулся.
— Они что, нас всех за дураков считают?
— Не думаю, — возразил Семенов. — Почему же именно за дураков?
Он никогда не думал о зрителях как о дураках, он вообще, если на то пошло, о них не думал. Он думал о режиссере, о худсовете, о критиках… Но о зрителях…
— А за кого же? — наступал мужчина. — Или за дураков, или за идиотов. Вы вспомните, что происходило на сцене?
— Я помню, — ответил Семенов.
— Надо или не надо выпускать бракованную продукцию?!! Как вы считаете: он нормальный, этот автор?
И мужчина внимательно посмотрел на Семенова.
— Это производственная пьеса, — заметил Семенов.
— Вранье! — вскипел мужчина. — Производство — это люди. А у него пьеса — про станок, а персонажи — суппорт, вал, станина и другие детали, самая живая из которых — задняя бабка…
— Это его шестая пьеса, — сказал Семенов, — она идет во многих театрах.
— Понятно, — сказал мужчина, — вы о нем такого же мнения, как и я. Если не хуже…
Семенов посмотрел в огромное старинное зеркало.
«Что он ко мне пристал? Вполне нормальное лицо. Ну, чуть усталое… Добрые, выразительные глаза… Еще нравлюсь женщинам. Что он от меня хочет?»
— Мне бы все-таки хотелось встретиться с автором, — сказал мужчина, — где-нибудь в темном переулке.
— Зачем? — вздрогнул Семенов.
— Так… — засмеялся мужчина, — руку пожать… Вот на вас, например, приятно смотреть… Добрые, выразительные глаза, приятное лицо… Почему вы не пишите пьес? Мне кажется, что у вас бы получилось.
— Я — химик, — соврал Семенов.
— Ну и что? Бородин тоже был химик. Чехов — врач…
— Боже упаси!.. О чем вы говорите… Не могут же все писать…
— Правильно, правильно, — согласился мужчина. — Сейчас все пишут. А о чем?! Театр — это праздник мысли, а не кладбище, как сегодня… Я помню, как меня мама впервые привела в театр. Это был праздник! Я не спал всю ночь… А потом был и Шиллер, Шекспир, Горький, Чехов… Они волновали меня, очищали, я плакал… «Музыка играет так весело, бодро и хочется жить! О, боже мой! Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь».