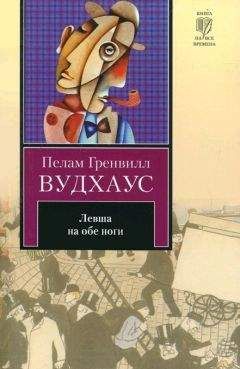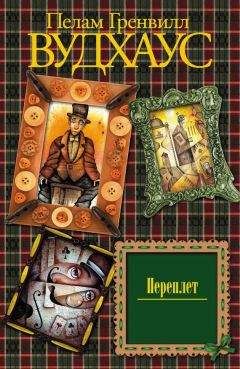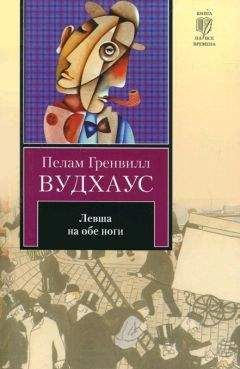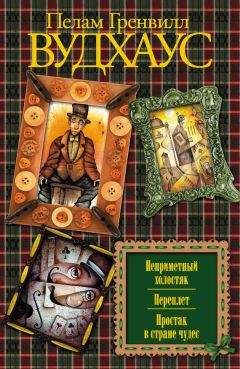Город плавился от жары. Генри потянуло в деревню. Целый месяц перед отпуском, отрывая время от чтения Британской энциклопедии, он изучал брошюры, посвященные разнообразным курортам. В конце концов он выбрал «Терновник», потому что в рекламном буклете о нем говорили очень хорошо.
А на самом деле оказалось, что «Терновник» — довольно обшарпанное строение чуть ли не на краю света. Для развлечения отдыхающим предлагались: грот, «Обрыв влюбленных», поле для гольфа на пять лунок, где игрокам приходилось преодолевать нетрадиционные препятствия в лице нескольких коз, привязанных к колышкам в самых неожиданных местах, и серебристое озеро, частично используемое как помойка, куда выбрасывают пустые консервные банки и деревянные ящики. Все здесь для Генри было ново и удивительно и вызывало странное ощущение восторга. Дух безоглядного веселья понемногу проник в его жилы. Казалось, что в такой романтической обстановке с ним обязательно должно произойти какое-нибудь приключение.
Тут как раз и появилась Минни Хилл. Была она худенькая и бледненькая, с большими глазами, которые растрогали Генри и пробудили в нем рыцарство. Он стал постоянно думать о Минни.
И вот однажды вечером он встретил ее на берегу серебристого озера. Он стоял у воды и хлопал руками, истребляя существа, похожие на комаров — хотя комарами они быть никак не могли, поскольку в рекламе специально было сказано, что в окрестностях «Терновника» комаров никогда не водилось. И тут подошла она — медленно, как будто утомленно. Необъяснимое волнение — отчасти жалость, отчасти что-то другое, — пронзило Генри. Он смотрел на нее, она смотрела на него.
Он сказал:
— Добрый вечер.
Это были первые слова, которые он сказал Минни Хилл. Обычно в столовой она не участвовала в общей беседе, а заговорить с ней на открытом воздухе Генри не позволяла стеснительность.
Минни Хилл ответила:
— Добрый вечер, — и тем сравняла счет.
Затем наступила тишина.
Сочувствие у Генри оказалось сильнее застенчивости.
Он сказал:
— Вы, кажется, устали?
— Устала. Я в городе переутомилась.
— Чем?
— Танцами.
— Ах, танцами… Вы много танцуете?
— Очень много.
— А!
Многообещающее начало — можно даже сказать, лихое. Но как продолжить? Впервые в жизни Генри пожалел о своей методичности при изучении энциклопедии. Как бы хорошо, если бы он мог уже сейчас поддержать непринужденную беседу на тему «танцы»! Память подсказала, что, хотя до «танцев» он еще не дошел, зато всего несколько недель назад прочел статью о «балете».
— Сам я не танцую, — сказал Генри Миллс, — но очень люблю читать о танцах. Вы знаете, что в современном языке есть три родственных слова: «балет», «бал» и «баллада», и что первоначально балетные танцы сопровождались пением?
Это ее сразило. Она словно обмякла, глядя на него с почтением, чуть ли даже не вытаращив глаза.
— Я страшно необразованная, — сказала Минни Хилл.
— Первый пантомимный балет, поставленный в Лондоне, Англия, — тихо сказал Генри, — назывался «Трактирные завсегдатаи», его сыграли в театре «Друри-Лейн» в тысяча семьсот каком-то году.
— Правда?
— А первый современный балет, по сохранившимся сведениям, был поставлен… кем-то там по случаю бракосочетания герцога Миланского в 1489 году.
На этот раз дату он произнес без запинки. Она была прибита к памяти Генри гвоздями, потому что случайно совпала с номером его телефона. Он продекламировал цифры с особым шиком, и глаза у девушки расширились.
— Вы столько всего знаете!
— Ну что вы, — скромно сказал Генри Миллс. — Просто много читаю.
— Как, наверное, замечательно много знать! — сказала она с грустью. — У меня вот нет времени на чтение. А я всегда хотела… По-моему, вы удивительный!
Душа Генри раскрылась, точно цветок, и замурлыкала, как поглаженная кошка. Никогда еще ни одна женщина им не восторгалась. Ощущение опьяняло.
Потом они молча возвращались на ферму, поскольку далекий звон колокола сообщил, что вскоре материализуется ужин. Звон был совсем не мелодичный, однако расстояние и магия минуты придали звуку особую прелесть. Заходящее солнце бросило алый ковер на серебристое озеро. Воздух был тих и неподвижен. Неизвестные науке существа, которых по ошибке можно было принять за комаров, будь этот вид насекомых возможен на ферме «Терновник», кусались больнее, чем прежде, но Генри ничего не замечал. Он от них даже не отмахивался. Они напились его крови до отвала и полетели оповестить своих друзей о прекрасной кормежке; для Генри они не существовали. С ним творилось странное. В ту ночь, лежа без сна в своей кровати, Генри понял, в чем дело. Он влюбился.
Весь остаток отпуска они не расставались. Вместе гуляли в лесу, сидели на берегу серебристого озера. Он щедро делился с Минни сокровищами своей учености, а она смотрела на него восторженными глазами и время от времени произносила тихое «да» или музыкальное «надо же!».
Срок настал, и Генри вернулся в Нью-Йорк.
— Неправильно все-таки ты смотришь на любовь, Миллс, — вскоре после этого сказал сентиментальный коллега-кассир. — Тебе бы жениться надо.
— Обязательно, — бодро ответил Генри. — На будущей неделе.
Это так поразило напарника, что он тут же выдал клиенту пятнадцать долларов по десятидолларовому чеку, и после закрытия банка вынужден был еще долго и взволнованно объясняться по телефону.
Первый год после женитьбы оказался счастливейшим в жизни Генри. Он часто слышал, что первый год брака — самый опасный, и мысленно готовился к столкновению вкусов, болезненной притирке характеров и неизбежным ссорам. Ничего подобного. Между ним и Минни с самого начала установилась полная гармония. Минни вошла в его жизнь легко и гладко, как река сливается с другой рекой. Ему даже не пришлось менять своих привычек. Каждое утро в восемь Генри завтракал, выкуривал сигарету и отправлялся к станции метро. В пять он уходил из банка и к шести был дома, поскольку у него было заведено первые две мили пути проходить пешком, дыша глубоко и размеренно. Потом обед. Потом тихий вечер. Иногда кино, а чаще — тихий уютный вечер. Генри читал Британскую энциклопедию — теперь уже вслух, а Минни штопала его носки и внимательно слушала.
Каждый день приносил с собой все то же чувство благодарного изумления от того, что он так невероятно счастлив, так удивительно покоен. Все было идеально, лучше и быть не может. Минни преобразилась. Она пополнела, больше не выглядела осунувшейся и изможденной.
Иногда он откладывал книгу и смотрел на Минни. Она сидела, склонившись над шитьем, и сперва ему были видны только ее волосы. Потом она замечала, что он больше не читает, поднимала голову — и он встречал взгляд ее больших глаз. Генри тихо булькал от счастья и спрашивал сам себя: «Ну разве с этим что-нибудь сравнится?»
Годовщину свадьбы они отпраздновали с шиком. Пообедали недалеко от Седьмой авеню в чудном переполненном итальянском ресторанчике, где красное вино было включено в счет, а вокруг сидели за столиками крайне эмоциональные люди — должно быть, очень умные — и разговаривали очень громкими голосами. После обеда Генри и Минни посмотрели музыкальную комедию, а потом — главное событие вечера! — поужинали в блистательном ресторане совсем рядом с Таймс-сквер.
Ужин в дорогом ресторане… Что-то в этом всегда притягивало воображение Генри. Жадно поглощая серьезную литературу, он иногда не гнушался и более легкого жанра — романов, которые начинаются с того, что герой ужинает посреди сверкающей толпы и вдруг замечает вошедшего в зал господина почтенной наружности об руку с юной девушкой такой потрясающей красоты, что праздные гуляки оборачиваются ей вслед. Потом герой сидит и курит, а к нему подходит официант и, вполголоса молвив: «Пардон, месье!» — подает записку.
Атмосфера «У Гейзенхаймера» живо напомнила Генри эти романы. Поужинав, он закурил сигару — вторую за день, — откинулся на спинку стула и огляделся вокруг. Он ощущал в себе какую-то бесшабашность. Его посетило чувство, которое приходит ко всем тихим домоседам, любителям чтения — будто бы именно сейчас он оказался в своей стихии. Сверкающие огни, музыка, общий гул, в котором сливаются воедино басовитое бульканье виноторговца, поперхнувшегося супом, и пронзительная трель хористки, призывающей по весне своего возлюбленного, — все это захватило Генри. Ему было почти тридцать шесть лет, а чувствовал он себя на двадцать один.
Над самым ухом раздался голос. Генри поднял глаза и увидел Сидни Мерсера.
Если Генри за этот год превратился в женатого человека, то Сидни Мерсер сделался существом настолько великолепным, что Генри на минуту онемел от такого зрелища. Безупречный вечерний костюм любовно облегал гибкую фигуру Сидни. На ногах блистали лаковые ботинки. Светлые волосы были гладко зачесаны назад, и отблески электрических огней играли на них, словно звезды на поверхности пруда. Над крахмальным воротничком дружелюбно улыбалось лицо, практически лишенное подбородка.