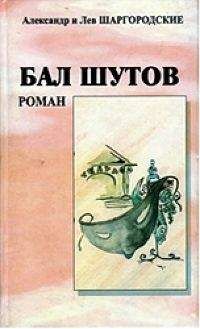Не надо забывать, что в комитете занимались музыкой — Шостакович, будь он жив, мог бы подтвердить это…
…На премьеру «Отелло» в Театр Абсурда Борщ послал своих любимых меломанчиков — Зубастика и Ушастика — Борщ предпочитал клички. Они были тонки, полны вкуса, носили очки, слегка грассировали и напоминали интеллектуалов западной школы.
При этом, в случае необходимости, они вам могли переломать все ребра. Они сидели подле членов антисионистского комитета и с профессиональным интересом наблюдали за трагической сценой, делая такие меткие и тонкие замечания, будто сами придушили не одну Дездемону, а заодно и Отелло. Техника удушения Отелло их, в общем, не удовлетворяла — душил он неумело, неловко, будто впервые, совершенно забыв про сонную артерию, которую надо было сразу же перекрыть, про трахею, рвать которую надо было раньше.
Но, как интеллигентные и воспитанные люди, они виду не подавали, а, наоборот, аплодировали, кричали «браво, бис».
После спектакля, как истинные театралы, вместе с другими любителями автографов они пошли за кулисы.
От них, конечно, не ускользнуло, как смылся в костюме Хо — Ши — Мина Леви, как перехватил на ходу стакан коньяка Боря Сокол и как пожарники уминали бутерброды, предназначенные для банкета…
За кулисами шел праздник. Все целовали Главного в уста. Лично Орест Орестыч наливал ему шампанское, называл спасителем. Да, Олег Сергеевич своим могучим талантом спас спектакль, театр, и лично Ореста Орестыча.
Отелло с Дездемоной еле держались на ногах.
В своих древних одеяниях они давали автографы. На программках, листочках, книгах они выводили: «С горячим мавританским приветом», или что‑то там в этом роде.
Мельпоменчики скромно жались в очереди, перемиинались, застенчиво улыбались.
Наконец, подошел их черед.
Зубастик достал из пиджачка удостоверение и протянул Отелло. Боря Сокол взял его своими большими черными руками и, почти не глядя, размашисто, по диагонали вывел: «Поклоннику Шекспира от поклонника Дездемоны. Боря Сокол.»
— На добрую память, — Отелло широко улыбнулся.
Зубастик нежно вырвал удостоверение.
— Вы не любите Шекспира? — спросил Сокол.
— Обожаю, но вы расписались не совсем там, — мягко ответил Зубастик.
И подсунул документ прямо под сверкающие очи Отелло.
Боря взглянул и, так и не разгримировавшись, побелел.
— Помедлите. Молю — два слова только,
Стране известно, как я ей служил… —
начал он вдруг произносить последний монолог.
Ушастик успокаивающе улыбался.
— Нам все известно, — произнес он и поцеловал Дездемоне руку, — прошу, вас ждут. Пройдемте черным ходом.
Они шли в кромешной тьме, ударяясь о какие‑то балки, доски, и, наконец, оказались на улице. Их ждала мерцающая в свете зловещей луны черная, как мавр, «Волга».
— Добро пожаловать! — Зубастик распахнул дверцу.
Отелло с Дездемоной разместились сзади, Зубастик — за рулем, Ушастик — рядом.
— Обожаю ночной Ленинград, — сказал он, — всюду романтика, кажется, вот — вот на набережной появится Пушкин.
Боря с недоверием смотрел на него.
— И вы его арестуете, — продолжил он, — как нас…
— Вы ошибаетесь, — нежно ответил Ушастик, — вы наши гости, хотя после такого преступления, можно было бы и арестовать.
Они синхронно хохотнули вежливым смехом, и машина полетела.
— Курить в гостях можно? — спросил Боря.
— Что за вопрос, — Ушастик протянул «Мальборо», — хотя лучше бросить. Подумайте о своем здоровье!
— Хорошо, — Отелло глубоко затянулся, — к кому мы, простите, приглашены?
— Это сюрприз!
— А мы не испугаем хозяев таким видом? — Ирина указала на их венецианские одежды.
— Нет, нет, что вы, — сказал Зубастик, — там привыкли, там бывают и не такие.
Дездемона похолодела.
— Это надолго? — спросила она. — Мы хотим спать. И потом, летом у нас гастроли в Сочи.
— В Сочи этим летом будет отвратительная погода, — доверительно сообщил Зубастик.
— А куда же вы нам рекомендуете, — поинтересовался Боря, — в Сибирь?
— Вы к нам несправедливы, Борис Николаевич, — обиделся Ушастик, — мы работаем по — новому, старые методы забыты… Скажем, вам бы не хотелось поехать в те края, где ваша любезная подруга обронила платочек? Или на места ваших исторических боев под Кипром?
Отелло закашлялся.
— Знаете, — сказал он, — вы бы могли прекрасно сыграть Яго.
Зубастик сладко улыбался.
— Если понадобится, — ласково произнес он, — мы сыграем и Дездемону.
— И платочек, — добавил Ушастик…
Выскочив из театра, Леви бегом завернул за угол, на Малую Садовую, и вскочил в такси. Он устроился на заднем сидении, продолжая трястись от еще непрошедшего страха.
— Boat people? — спросил шофер, — только что выловили из океана?
— Меня давно выловили, — отстучал зубами Леви.
— А чего тогда трясешься? — он оглянулся, обомлел. И тоже начал трястись. Некоторое время они молча и синхронно тряслись.
— Здраствуйте, товарищ Хо — Ши — Мин, — наконец, заикаясь, произнес таксист, — простите… я вас не разглядел… в темноте… И потом — я думал, что вы давно того… умерли… А вы, оказывается, все еще живой.
— Полуживой, — поправил Хо — Ши — Мин, и назвал адрес. — Гони! И побыстрее!
— Сейчас, — ответил шофер. — У меня к вам только один вопрос. Деликатный. Насчет геноцида. Зачем вы его устроили, товарищ Хо — Ши — Мин?
«Сейчас и этот начнет бить, — подумал Леви, — и кричать: вьетнамская морда!»
— Я тут ни при чем, — объяснил он, — это все ревизионисты! И после моей смерти…
Таксист побледнел и вновь задрожал.
— Пожалуйста, перестаньте дрожать, — попросил дрожащий Хо — Ши — Мин, — и не волнуйтесь. В чем дело? Мы все умрем!
Таксист выскочил из машины и исчез в темноте.
Леви тоже хотел выскочить, но не решился — вокруг бродили толпы разъяренных театралов в поисках евреев. Были шансы, что узнают.
Не вылезая из машины, он перелез на переднее сиденье и сел за руль. И тут же к нему подбежал взлохмаченный тип, отделившийся от толпы. Леви узнал в нем театрала, носившегося за ним по сцене.
— Эй, Хо — Ши — Мин, — крикнул тот, — на Выборгскую подвезешь?
— Занято, товарищ, — ответил Хо — Ши — Мин, — частный вызов.
Он хотел нажать на газ, но дорогу машине преградил театрал, оравший из партера «Бей жидов, спасай Россию!». «Спаситель» требовал отвезти его на Каменный остров.
Бегавший по сцене, недолго думая, выбросил вперед правую руку, как Ленин на трибуне, и дал «спасителю» в глаз. «Спаситель» заревел, как бык, смертельно раненный тореадором, и резким ударом головой в живот отбросил «бегуна» на другую сторону тротуара. Затем он быстро вскочил в такси.
— Вези, косой!
И «косой» повез.
— Ты, бля, слышал, — спросил спаситель, — Яго‑то, оказывается, еврей!
— Я — го, — уточнил Леви, — китаец!
— Ну?! — бросил «спаситель» и вдруг закричал: «Останови машину!»
— Не могу, — сказал Леви, — тут запрещено.
— Эх ты, мудила! Там же еврей прошел. Я хотел ему пейсы вырвать!
Машина неслась по опустевшему городу, все меньше фонарей подмигивало Леви, все меньше машин попадалось навстречу.
— Стой, бородатый, — произнес «спаситель», — ты куда меня везешь?
— Не волнуйтесь, товарищ, уже приехали, — объяснил Леви и остановил машину на пустыре.
Затем он повернулся к «спасителю» и медленно, с каким‑то садистским наслаждением снял бороду.
— Привет от Ягера, — пропел Леви и помахал бородкой перед лицом «спасителя».
Тот обомлел — перед ним сидел Яго.
— Во, жиды, — выдавил он, — все Ягерами заделались!
— Выходи, — предложил Леви.
— Это еще зачем?
— Я хочу тебя машиной переехать, — объяснил Леви.
Затем он резко открыл заднюю дверцу и выбросил «спасителя» в лужу.
— Жиды давят! — завопил тот.
— Еще раз появишься в театре — задушу. Как Дездемону! — пообещал Леви и нажал на газ.
Подойдя к своим дверям, Леонид Львович достал из кармана ключи и начал отпирать дверь. Но ключи не лезли. Они были фигурные, конусообразные и чем‑то напоминали соборы барселонского архитектора Гауди. Хотя и были вьетнамские. Очевидно, их купили вместе с костюмом.
— Боже, — прошептал Леви. — Я представляю, как ты занят. Но прошу тебя: плюнь на все, хотя бы на секунду, и задумайся — разве я заслужил твое божественное наказание? Неужели ты там у себя наверху не видишь, как я не хотел играть эту роль? Прошу тебя — сделай так, чтобы я мог войти. Тебе же это раз плюнуть. А мне надо поговорить с Иегудой, и потом — я хочу спать.
Леви с надеждой нажал на ручку двери, но та не поддавалась.
— Понимаю, — прошептал он, — ты меня не прощаешь. Ты справедливый, но жестокий. Придется мне попробовать самому. Ты не против?