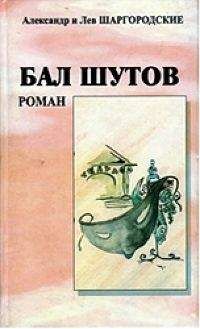— Оставь меня в покое, — ответил «первый на очереди», — ты мешаешь мне мыслить.
И Леви почувствовал, что великий земляк и почти однофамилец обиделся на него.
Он встал на колени.
— Иегуда, — с пафосом произнес Леви, — клянусь памятью моих предков — испанских евреев, воспитанных на музыке и поэзии — очередная роль — ты! Даже если мне предложат Хомейни.
Но ему предложили совсем другое…
Из многих мудростей жизни Главный лучше всего почему‑то помнил одну:
«На скамье подсудимых всегда есть свободные места».
Он лежал с рукописью в обнимку, как с любимой женщиной, любовно глядя на нее, лаская и целуя, и в его голову внезапно пришла блестящая мысль.
Почему эта умная мысль не может придти в голову дураку?
«Меня спасет не Отелло, — подумал он, — а Владимир Ильич Ленин, сорока семи лет.»
И тут же принял решение о постановке несгораемой пьесы, принял прямо под одеялом, вернее, под портретом Ленина, так как и одеяло, и сам Главный, да и все остальное находилось под Первым съездом Советов, где Владимир Ильич произносил речь перед тремя тысячами делегатов.
Картина висела давно, Главный знал в лицо всех участников съезда, а речь Ленина — наизусть.
Главный прекрасно понял, почему не сгорела пьеса, и догадывался, что, если он ее не поставит — сгорит сам.
И делегаты не спасут!..
Он приблизился к портрету и на глазах солдатских, рабочих и крестьянских депутатов смачно чмокнул выброшенную вперед ленинскую руку.
— Не перебивайте, Олег Сергееич! — раздраженно бросил Владимир Ильич и отдернул руку. — Вся власть Советам, товарищи!
Товарищи неистово зааплодировали.
Главный свалился в постель.
— У меня жар, — прохрипел он и покосился на портрет. Рука вождя была выброшена вперед.
Главный хотел забраться в холодильник, но испугался окончательного обледенения и побежал в театр…
Устроившись в кресле, он первым делом вызвал к себе Леви,
— Леонид Львович, — торжественно произнес Главный, — сколько вам лет?
— Какое это имеет значение? — удивился Леви.
— Вы правы, — махнул рукой Олег Сергеевич. — Я не спал всю ночь и решил предложить вам роль, о которой вы мечтали.
Перед глазами Леви проплыл облик Иегуды Галеви, проплыли его витиеватые строчки.
«Ты видишь, учитель, — произнес он про себя, — мечты сбываются. И даже быстрее, чем я ожидал. Без этого Героя…»
— Несколько за пятьдесят, — произнес Леви. — В самый раз.
— Что за пятьдесят? — не понял Главный.
— Лет! Вы же спрашивали, сколько мне лет…
— Я вижу — вы довольны, — улыбнулся Главный.
— Что значит — доволен, — произнес Леви, — я счастлив!
— Я тоже, — заметил Главный. — Вы будете ЕГО изображать в самый ответственный момент жизни — в момент вооруженного восстания.
Леви несколько задумался. Перед его взором пронеслась вся бурная жизнь Галеви. В ней было все — не было только восстаний.
— Он разве участвовал в восстании? — осторожно спросил Леви.
— Да, да, вы правы, — согласился Олег Сергеевич, — в момент руководства революцией.
И этого, вроде, не делал Иегуда в своей бурной жизни.
— Революцией?! — обалдел Леви. — Вы не ошибаетесь?
У Главного перехватило дыхание.
— Друг мой, — выдавил он, — я не понимаю, чему вы удивляетесь?! Это же известно каждому школьнику! Даже двоечнику!
Но «друг» продолжал удивляться.
— Откуда, когда ни в одном учебнике о нем нет ни слова!
— Леонид Львович, — Главный медленно встал, — это кощунство!
— И я так считаю, — согласился Леви, — ни слова о великом человеке!
Никто ничего о нем не знает. Даже вы!
— Как это?! — Главный побелел.
— Тогда скажите, как он погиб?
— Он, он, — Главный заикался, — в него стреляли… Он умер от ран. Но не сразу…
— Ерунда! Его раздавила лошадь сарацинского всадника…
Главный долго пил прямо из графина.
— …у самой стены, — продолжил Леви.
— Кремлевской?! — с тихим ужасом спросил Главный.
— Плача! — объяснил Леонид Львович. — Иерусалимской!
В глазах Олега Сергеевича поплыл Первый съезд.
— Но Владимир Ильич никогда не был в Иерусалиме, — выдавил он.
— Какой Владимир, — удивился Леви. — Его звали Иегуда!
Главный издал что‑то наподобие последнего вздоха.
— Ленина?!..
— Галеви, — поправил Леонид Львович. — Насколько я понимаю, речь идет о роли Галеви. Причем здесь Ленин?
Главный долго не дышал. Затем он набрался сил.
— Я вам предлагаю мечту, сыграть Ленина — мечту всех актеров планеты. Или вы об этом не мечтаете?!
Леви все понял.
— Мечтаю! — почти закричал он. — Но я этого недостоин. Я мал. Я — карлик по сравнению с ним. В лучшем случае я — Свердлов, может, Хо — Ши — Мин, но великий вождь?.. И потом, Олег Сергеевич, я еврей, а Владимир Ильич…
— У него был дед еврей, — гнусавил Главный.
— Хорошо, — согласился Леви, — я сыграю дедушку.
— Вы сыграете внука, — протянул Главный.
— Не могу! — завопил Леви.
— Не орите! Вытяните‑ка правую руку вперед.
— Я уже вытягивал. Руки Свердлова, Дзержинского. Нет сил!
Он с трудом поднял руку.
— А теперь скажите: «Вся власть Советам!», — приказал Главный.
— Не сумею, иссяк, пропал революционный пыл. Умоляю, увольте! Я уже играл всех членов ЦК! У них адская работа! Я устал.
— «Вся власть Советам!», — требовал Главный.
— Вся власть Советам, — выдавил Леви.
— Вылитый Ленин, — констатировал Олег Сергеевич. — На Первом съезде! Держите, вот пьеса.
Он кинул ему рукопись.
Леви еле поймал ее — и не успел коснуться, как пьеса вспыхнула и сгорела синим пламенем, не оставив даже золы.
— Что вы с ней сделали? — остолбенел Главный.
— Абсолютно ничего! — поклялся Леви. — Вы же видели.
— Вы ее сожгли! Как вам удалось?
— Нет, ей Богу, я не курю. У меня даже нет спичек.
— Несгораемая пьеса!.. Вы дьявол, Леонид Львович, вы черт! — глаза Главного горели.
И тут его пронзила гениальная мысль. Почему эта гениальная мысль не может залететь в лоб идиота?..
— Будете играть в «Отелло»! — с пафосом выкрикнул Главный. — В «Отелло»!
— Позвольте, Олег Сергеевич, — отбивался Леви, — в «Отелло» нет Ленина, я вас заверяю.
— Яго! — мягко пояснил Главный, и, выкинув правую руку вперед, вдруг брякнул: Вся власть Советам!
Гуревичу, в общем, было все равно, куда ехать, главное туда — где не запрещают, где нет комиссий с дамочками и храпящим «гласом народа». Но он решил посоветоваться.
В то время в ленинградских театральных кругах ошивался некий американец Майк Спиц, которого все называли «Анкл Майк» и который писал диссертацию по Мейерхольду.
Спиц обожал Гуревича, все его постановки, и одно время даже думал сменить великого Мейерхольда на него.
Анкл Майк был долговяз, кое‑что кумекал по — русски и за театр мог предать родину и продать мать.
Они встретились в кафе «Север». Гуревич все поведал ему.
— Ви крейзи, — сказал Анкл Майк, — куда вас несет?!!
— Не знаю. Англия, Италия, США… Не знаю.
— Зачем, — спросил Майк, — Вай? Скашите мне — вай?
— За свободой, — ответил Гуревич, — вы ею надышались, а я ее не нюхал.
— И нэ нухайтэ! — сказал Анкл Майк.
— Как это?!
— Очень просто. Что такое свобода бэз мани? Насинг! Свобода без мани, — повторил Анкл Майк, — хуже неволи. А на сиэтре, май дарлинг, мани не заработаешь!
— С моим талантом?!
— С вашим, с вашим!
— А кем же, по — вашему, я там буду?
— Программирование знаете? — спросил Майк.
— Не обижайте, — попросил Гуревич.
— Тогда официантом, — сказал Анкл, — может, таксистом.
Гуревич вскочил.
— С моим талантом?! — вновь вскричал он.
— Сядьте, Гурвиц, — попросил Майк, — о вашем тэлаэнте никто не узнает. Нушен не тэлэнт, нужен скэндэл!
— Какой скэндэл?! — не понял Гуревич.
— Биг скэндэл! Будэт скэндэл — будут мани! Без скэндэла нэчего уезжать. Приедете со скэндэлом — будут пропозишен, будет паблисити, будут мани.
Гуревич задумался.
— Анкл Майк, — сказал он, — все мое творчество здесь — сплошной скандал. Что еще?
— Итс насинг, — произнес Майк, — итс сиэтэр скэндэл. Надо политикэл скэндэл, уорлд скэндэл.
— Что вы имеете ввиду? — поинтересовался Гарик.
— Угоните эрплейн, — посоветовал Майк, — и на нем прилетите.
— Вы пьяны, Анкл Майк, вам больше не надо пить. Поставьте рюмку.
— Я не пьяный, Гурвиц, я умный. Слушайте меня внимательно: различие между двумя нашими странами в следующем: если здесь вы делаете из Отелло еврея — говорит вся страна, если там вы делаете из Отелло еврея, или японца, или женщину, все равно — не замечает никто. Я боюсь, вы этого не вынесете. Здесь сиэтер — это лайф, там сиэтер — это насинг…