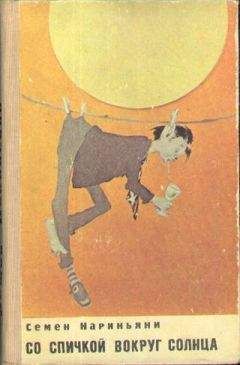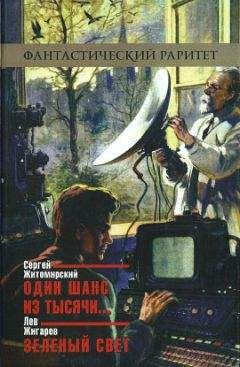«Сыночек, исть хочу».
А он отвечает:
«Молитесь, дорогая мамочка, чтобы бог скорей вас к себе прибрал. На небе харч лучше».
Женщина помоложе слушает за сегодняшний день этот рассказ в третий раз. Сначала на ступеньках рыбного магазина, потом в райкоме партии и, наконец, сейчас в редакции и каждый раз плачет, причитает:
— И это родной сын! И это член партии!
— Как, разве он член партии?
— У нее все пятеро члены партии.
— Не может быть, — говорю я.
— Может! — заявляет женщина помоложе. — Вы послушайте, что она будет сейчас про своего младшего говорить.
Я смотрю на Капитолину Прохоровну. Та вытирает слезы и начинает говорить про младшего.
— Токарь он у меня. Душой добрый.
— Ты скажи, что он делает, — говорит женщина помоложе.
— Бьет он меня.
— Добрый и бьет?
— Без характера. Жена им крутит, заставляет.
— Он не только бьет, — добавляет женщина помоложе. — Он привязывает мать на целый день к ножке стола.
— «Сиди, дорогая мамочка!» — снова говорит Капитолина Прохоровна и после этой фразы опять достает платок, плачет.
Вместе с нею плачет, причитает женщина помоложе, а вслед за нею начинаю реветь и я. Фельетонист-мужчина, конечно, обошелся бы без слез, а я, каюсь, ревела. Пила воду, чтобы успокоиться. Успокоюсь на время; как только Капитолина Прохоровна дойдет до фразы-эпитафии: «Спи, дорогая мамочка», — меня кидает в слезы.
У Капитолины Прохоровны кроме трех сыновей было две дочери: кандидат технических наук и кандидат физических наук. Одна, у которой муж был тряпкой, — зверь, а вторая, у которой муж не был тряпкой, — потаскушка. Пятеро детей, пять печальных рассказов, пять заключительных фраз-эпитафий, и после каждой — слезы.
Женщины с авоськами ушли, а я сижу, не могу успокоиться. В три часа репортеры из отдела информации идут в столовую. Заходят, за мной. Я машу им рукой:
— Идите, догоню.
Пообещала, но не пошла в столовую. Час назад очень хотелось есть, а после рассказов матери аппетит пропал.
Перед концом работы снова звонит секретарь райкома.
— Была у вас эта несчастная старая мать? Рассказала про детей? Правда, страшно?
— Очень.
— Уже пишете?
— Сяду завтра.
— Вы бы сели сейчас. Под настроение. Пока злость на этих гадов не прошла.
— Не пройдет.
IIУтром по дороге в редакцию захожу в ветеринарную лечебницу посмотреть, как выглядит второй сын Капитолины Прохоровны. Собачий доктор. Вхожу, спрашиваю:
— Я могу видеть Клима Владимировича?
— К Климу Владимировичу на сегодня все номера розданы, — говорит санитарка-швейцар. — Могу проводить к Розе Ивановне или к Борису Кондратьевичу.
Объясняю санитарке, кто я.
— Из редакции. Иду к Климу Владимировичу не на прием, по делу.
Санитарка-швейцар поднимается с табуретки и ведет меня в большой светлый зал.
Три двери. Около каждой стулья. У двух дверей, где принимают Роза Ивановна и Борис Кондратьевич, один-два посетителя, а около двери Клима Владимировича тесно от ребятишек. Мальчики, девочки. У каждого в руках ящичек, корзина, кошелка, и из каждой на вас смотрит зверек или птичка.
— Ребятня! — говорит санитарка. — К другим врачам не идут. Часами сидят у этой двери, лишь бы показать своего больного дяде Климу. Он для них вроде доктора Айболита.
— Айболит был добрым, отзывчивым.
— И Клим Владимирович добрый.
— Что-то не верится.
— Почему?
Я молчу, не отвечаю санитарке. Зачем раньше времени раскрывать свои карты.
Санитарка подходит к средней двери. Дети хором говорят:
— Нельзя. Дядя Клим делает операцию.
— Кому?
— Воробью.
Хозяйка воробья, девочка с большим розовым бантом, как услышала слово «воробей», так тут же залилась слезами. Санитарка-швейцар гладит ее по головке, спрашивает: что с ней? Как зовут? И дети, сидящие на соседних стульях, объясняют, что девочку зовут Нинель, а плачет она потому, что ей жаль воробья.
В этом месте девочка Нинель решает вступить в разговор. Она говорит только одно слово «Генка» и снова заливается слезами.
Мальчики и девочки объясняют. Генка — это брат Нинель. Утром Генка сбил из рогатки воробья с дерева. Все думали — воробей убит. Он лежал в пыли, не двигался. А воробей был в обмороке. Генка сломал воробью ножку. Нинель, вместо того чтобы идти в школу, побежала в ветлечебницу, и вот теперь дядя Клим накладывает на сломанную ножку шины.
— Господи, — говорю я. — У воробьишки ножка тоньше спички, разве можно взять ее в шины?
— О, дядя Клим! — восхищенно говорит мальчик с черепахой.
А девочка с кошкой прибавляет:
— Он и осе мог бы срастить ножку, только осы злые и за них никто не просит.
— Ребята, — обращается санитарка-швейцар к детям, показывая на меня, — эта тетя из редакции. Она пойдет к дяде Климу без очереди. Вы пропустите ее. Хорошо?
В ответ ребята не очень дружно отвечают «хорошо» и начинают пересаживаться со стула на стул, чтобы освободить мне место рядом с дверью доктора. Я говорю «спасибо», сажусь, и почти тут же ко мне подходят две школьницы с трехшерстным котенком. Девочки сначала молчат, потом, пошептавшись, набираются смелости, спрашивают меня:
— Тетя, а вы можете отличить мальчика от девочки?
— Как будто.
— Тогда скажите, кто это? — спрашивают девочки и протягивают мне трехшерстного.
Оглядываю котенка и говорю:
— Мальчик.
— А я что говорила, — укоризненно шепчет одна из девочек.
Вторая девочка смотрит на меня исподлобья. Она явно не верит в мое умение отличить кота от кошки. Хочет что-то сказать и, не сказав, отходит со второй девочкой в конец очереди.
Девочка с розовым бантом перестает плакать и начинает рассказывать про девочек, которые только что разговаривали со мной.
Это, оказывается, сестры-близнецы. Они давно хотят завести котенка, а их мама не хочет. Мама сказала им:
— Будет не кот, а кошка, утоплю.
Месяц назад девочкам кто-то, подарил котенка. Девочки спросили: а он кто? Хозяин сказал — кот. Девочки не поверили, показали котенка дворнику, и дворник тоже сказал — кот.
— А их мама, — говорит девочка с розовым бантом, — утопила кота, потому что он был кошкой.
Поведение мамы возмущает меня. Девочка с розовым бантом видит это и говорит:
— Девочки не хотят, чтобы их мама утопила в ведре и этого котенка.
— Этот котенок — кот, его не утопят.
А девочка с розовым бантом тянется к моему уху, шепчет:
— Давайте пропустим этих сестер без очереди. Им только на минутку.
— Нам только на минутку, — эхом повторяет с той стороны очереди одна из сестер, а вторая добавляет:
— Спросим у дяди Клима, кто котенок: мальчик или девочка?
— Ладно, идите, — говорю я.
Очередь снова пересаживается со стула на стул с тем, чтобы я могла уступить место у двери сестрам-близнецам. Я уступаю, сажусь на стул дальше. Сестры говорят «спасибо» и садятся вдвоем на один стул.
Проходит еще минута, и девочка с розовым бантом снова тянется к моему уху.
— Давайте пропустим вон того мальчика.
Я начинаю сердиться:
— А что у того мальчика?
Девочка бежит к мальчику, который сидит за три стула от нас, и ведет его ко мне. Мальчику лет двенадцать. На месте носа у него запятая. Загорелая мордашка обсыпана веснушками, как венская булочка — маком. Мальчик в рваной рубашке, но гордый. Он сам ничего не говорит, ни о чем не просит. Все это делает за него девочка с розовым бантом.
— Скажи тете из редакции, что у тебя?
Мальчик молча раскрывает кошелку, и я вижу окровавленного петуха-минорку. Голова побита, изранена. Гребень разорван, глаз вырван и висит на сантиметр ниже положенного места на двух жилках.
Я зажмурилась, спрашиваю:
— Кто его так?
Мальчик молчит, отвечает все та же девочка с розовым бантом:
— Он подрался с соседским петухом.
Со всех стульев несутся дополнения:
— Тот малайский.
— В два раза больше.
— У того шпоры.
— Это, он не шпорами, а клювом выклевал.
— Глаз может прижиться! — говорит мальчик с черепахой.
— Глаз не может прижиться! — говорит одна из сестер-близнецов.
Начинается спор. На шум приходит санитарка и укоризненно показывает ребятам на дверь, за которой дядя Клим накладывает шины на сломанную ногу воробья. Спор сразу затихает. Санитарка уходит, и в наступившей тишине девочка с розовым бантом полушепотом рассказывает мне о трагедии, которая чуть было не разыгралась после петушиного боя.
Хозяин петуха с выклеванным глазом, шофер автобуса, решил отрубить раненому голову. И пока шофер ходил за топором, сын шофера, гордый мальчик в рваной рубахе, выкрал петуха и прибежал с ним в ветеринарную лечебницу. И теперь жизнь Петьки была в руках дяди Клима. Если дядя Клим возьмется приживить Петьке глаз, ему не отрубят голову. Если не возьмется, быть петуху зажаренным.