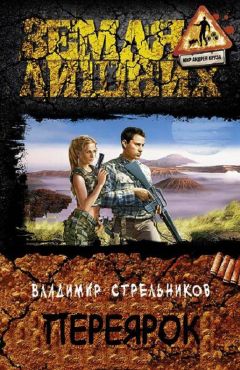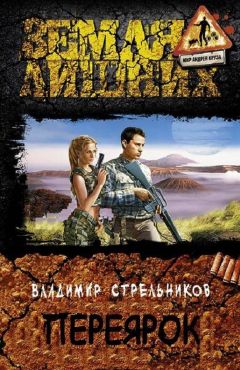Слепой орал зрячему:
– Эй, ты, голос подай! Я тебя на звук сниму!
Эти, от канистры, задирались к калгану:
– Начальничек! Давай твою пукалку пропьем!
Калган цеплялся к косому:
– Эй, парень, выверни глаз! Целиться будет удобно.
Косой Гам-Гам нарывался на драку:
– Чёренький, ты чего не пьешь?
– Да так как-то...
– Учти, чёренький! У меня ружье само стреляет. Раз в году.
И ненавидел уже меня, трезвого.
Малый верещал с кормы:
– По рублику! По рублику!
– По рублику, – сказали от канистры, – святое дело.
И зашарили по карманам. Раз по своим, два раза по чужим.
Тут недоросток пустил пузыри, всплыл, ухватился за лодку.
– Тону, – сказал радостно.
Лодка кружилась на месте, воды было по колено, но никто ее не вычерпывал. А из тумана глядели рожи с рылами, хари с мордами, перетекали одно в другое вялыми волнами. Смотрели. Удивлялись. Похохатывали уважительно. Когда им подносили выпить, отворачивались стеснительно, переплывали в тумане, меняли облики.
– Чего встали? – спросили сверхсрочники. – Нам стрелять пора.
– Омут, – объяснил Терешечка. – Шест не достает.
– Рукой греби.
– Туман. Морока. Леший водит.
– Лешего нет, – авторитетно сказал недоросток. – Отвечаю за это.
В тумане вздохнул кто-то. Кто-то подхихикнул. Кому-то сказали язвительно:
– Вот так вот. Отменили тебя, Игоша.
– Я его сама отменю, – ответили со скрипом. – Мутовкой по затылку.
Сунулась оттуда рожа: не приведи Господь! Зубы – как у пилы. Разведены на стороны, чтобы не заедало. Мой друг увидел и снова отпал в беспамятство.
– Игоша, – сказал. – Кикимора болотная. Безрукая и безногая. Она же трясуха, гнетуха, желтуха, бледнуха, знобуха и трепуха. Ломовая и маяльница – тоже она.
– Красавица! – заорал Гам-Гам. – Сыпь сюда! Я тебя в жены возьму.
Ее и перекорежило от ужаса.
– В кале блуда, – сказала с омерзением, – яко свиния валяшеся... Сгинь, нечистая сила!
Он, естественно, не сгинул.
– Стану я тебе, – сказал важно. – Небось, не старые времена. Хватит уже, подурачили нас с попами.
Кинул сквозь нее бутылку...
5
В тумане – времени не разобрать.
Когда лодка ткнулась уже о берег, дело было под вечер.
Волны опали вялые. Небо порозовело закатное. Холод разлился по округе, гниль листа прелого, светлота глубин предосенняя.
Вышел на берег Терешечка. Вышли мы с другом. Вышли старшины-сверхсрочники, в ногу зашагали на мысок. Остальные спали вповалку на дне лодки.
– Может, передохнем? – вслед попросил Терешечка.
– Мясца поедим, – ответили старшины, – тогда и передохнем.
Дружно взвели курки.
Тишь зависла несмелая.
Небо загустело понизу.
Лес затаился до случая.
Будто ждал, выжидал, высматривал.
И оттуда, с закатной стороны, пошли на нас утки.
Розовым строем. Тяжело и размеренно. На излете долгого пути.
Зависали в раздумье, валились на крыло, опускались на ночевку в болота.
– Кто стреляет, – сказал мой надоедливый друг, – тот чистит ружье.
– Я стреляю, – сказал Терешечка. – Дали бы мне.
– Куда тебе, – гордо сказали сверхсрочники. – Сиди на печи да золу пересыпай.
Ввдарили дуплетом.
Была пауза.
– Странно, – сказал мой друг. – Что-то они долго с неба не валятся.
Сверхсрочники уставились друг на друга.
– Глаз застоялся, – объяснил один.
– Рука занемела, – объяснил другой.
И ловко переломили стволы.
Дальше – сплошной ужас! Стрельба, как при хорошем наступлении. Артподготовка. Массированный налет. Минометы с гаубицами. Только лес ухал жалобно. Да хвоя валилась. Да зверье разбегалось. Да жуки-таракашки валились на спины и прикидывались мертвыми. И хоть бы одна утка упала с неба. Подлетали, крутились над головой, грудью кидались на каждый выстрел, будто склевывали с воды дробь.
Старшины зверели.
Мы удивлялись.
Терешечка ликовал.
– Птица, – кричал, – заговоренная! За так не возьмешь!
– Врешь, – шипели сверхсрочники. – Не такую брали.
Снова переламывали стволы.
Подлетел зеленоголовый селезень, сел на воду, нагло подплыл к самым ногам. Они подобрались к нему с двух сторон, ухнули в упор с четырех стволов: тот даже не почесался.
Сломались старшины.
Захлюпали сверхсрочники.
Пустили слезу особые десантные войска. Сопели, сморкались, соплю растирали могучим кулаком.
– Мясца... – ныли. – Хоть какого. Силу потеряли без мясца... Ути-ути...
И пошли прочь несчастными, обиженными переростками.
Сгинули навсегда в лопухах-крапиве.
– Хе, – подхихикнул Терешечка. – Не таких брали.
Нам засветило чего-то:
– Ты умудрил?
– Я шебутной, – сказал. – Я бедокур. Я им патроны поменял. Вместо дроби – картошка вареная. Утицам на корм.
– Когда это ты успел?
– А тогда. Зря я вас по туманам елозил?
Рот разинул варежкой.
Тут прискакал от лодки Степа-позорник, подхватил наше ружье, повел стволами за стаей.
– Зря стараешься, – сказали мы. – У нас и патронов нет.
Грохнуло громом.
Полыхнуло огнем.
Потянуло пороховым запашком.
Валится птица с небес к нашим ногам.
Ударилась грудкой о землю, выворотила крыло, бусинка крови выступила на клюве.
Как умерло всё вокруг. Затаилось без дыхания. Приподнялось на носочки, чтобы разглядеть и убедиться.
Терешечка грозно поворачивался к нему:
– Ты! Срамник старый...
– А чего, – на голос взял Степа. – Их ружье, им и ответ.
– Патрон, – залепетали мы. – Не проверено... От прежнего хозяина.
– Да у них и прав нету, – нагло сказал Степа. – Пойтить доложить, может, медаль дадут.
Ушагал без оглядки.
А сзади уже подкапливалось – свирепое, суровое, грозовое: кожу ершило на спине. Как рука отпахнутая для удара. Нога отведенная для пинка. Пасть ощеренная. Коготь нацеленный. Клык. И закат утухал стремительно, кровью утекал из тела.
– Минута благая, – сказал Терешечка. – Вам бы не к месту...
Повел нас от беды. Спорым шагом.
А позади свист, щелканье, уханье, плач навзрыд и хохот взахлеб.
– Дикенькие мужички, – сказал. – Лешии. Лисуны. Разгуляются теперь без меры.
Обогнули воды озерцо, осоку с кувшинками, поднялись в гору: вот он, перед нами, лес многостолпный, вот оно, понизу, дупло в корневище. Сколько в тумане бултыхались, не один поди час, а воротились в момент.
Терешечка уже лез внутрь, нас волок за собой.
– Пересидим тут.
И всё стихло.
В дупле было сухо, тепло, труха мягкая под ногой. Подстилочка. Одеяльце истертое. Одежка грудой. Букетик засохший. Моргасик керосиновый. Жилого жилья дух. Лечь бы, да укрыться с головою, да храпануть всласть.
Мой надоедливый друг уже щурил на Терешечку глаз.
– Ты чего это – такой к нам добрый?
– Тоже живые, – ответил. – Небось, и вас жалко.
– Да мы-то вон чего наворотили!
– Все наворотили, – сказал. – Кого тогда и жалеть?
Гудение прошло по лесу.
Густое. Нутряное. Тяжкое.
Как скотину повели на убой.
Шла меж стволов смытая далью процессия, лепились воедино невидные к вечеру фигуры, птица плыла над головами на вскинутых к небу руках, крыло провисало опавшее, и были приспущены ветви, были притушены звезды, были приглушены звуки, и плач шел оттуда, плач леса по утице, стон горький по живности – выбитой, стреляной, травленой, загнанной, запуганной, разбежавшейся, выродившейся, обреченной, выпотрошенной, ощипанной и обглоданной. Брюхом кверху. Кишками наружу. Чучелом на стене. Подстилкой на полу.
Стукнули по стволу стуком хозяйским.
Женщина сказала сурово:
– Терентий, выводи этих.
Он затаился.
– Терентий, кому сказано.
Дыру пузом заткнул.
– Я пойду, – взволновался мой друг. – Я повинюсь.
– Сиди! Не то получишь – грудями по ушам.
– А ты?
– Я-то привыкший.
Распалилась:
– Терентий, с корнями завалю!
Вылез с неохотой.
Дальше шепот. Быстрый и горячий. Не разбери поймешь. Бурдело, зудело, прорывалось словами: «Ходят тут всякие... Не для них рощено... Я тебе кто?.. Пошел вон отсюдова!..»
И Терентий в дупло впал.
Сидит, за ухо держится, губы распустил от обиды.
С бабой – оно непросто.
Мой надоедливый друг подобрался поближе:
– Ты чего это – такой нам заступник?
– Дурные вы, – сказал. – Неприкаянные. Вам – прислониться к кому.
Мы с другом вздохнули от удовольствия:
– Еще говори...
Тут я поплыл куда-то, как на облаке, и плыл легко и долго, не желая опускаться на землю... но завалился сразу и вдруг.
В дупле было черно.
Тепло и покойно.
Разинутая пасть наружу перемигивалась частыми блёстками.
И голос с хрипотцой ерошил-беспокоил...
– ...жили мы на отшибе, у самого леса. Мать-тихуша да я молчун. Хлеба ни куска – везде тоска... Бати у нас не было. Батя сбёг давно, я еще в люльке лежал, с той поры лица не казал. Мать за двоих горбатилась. Писем от него не было, денег тоже; кой-когда, к празднику, слал фото свои. С ружьем. В тулупе. Морда сытая. Мать их на стенку кнопила, ночью вставала, глядела, ладонью оглаживала. А то у окна сидела, на дороге высматривала. «Мать, – говорю, – шла бы ты замуж, пока годы не вышли». А она: «Что ты! Ты что? Я ведь повенчана». Так и померла, не дождавшись. Велела напоследок: «Отец воротится – прими». Один остался, совсем уж молчком жил...