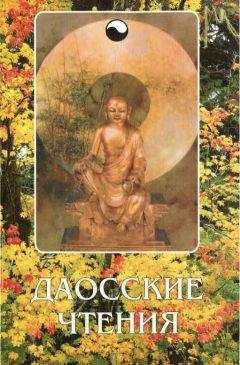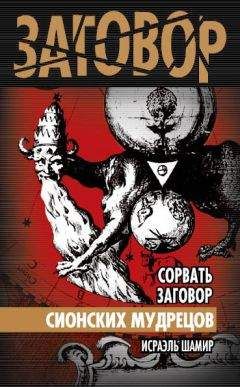Бесконечная печаль изобразилась в глазах дервиша. Ненадолго оцепенев, он, наконец, учтиво поклонился, прижав ладонь к сердцу, и молча ушел.
Однажды Сюй Вэньчан, скитаясь без гроша в кармане, попросился на ночлег в один из монастырей. Монахи впустили странника, но, видя, что перед ними бедный ученый, обращались с ним довольно грубо.
В тот же вечер в монастыре остановился и богатый купец, и монахи наперебой старались ему угодить.
Не захотев терпеть такую несправедливость, Сюй Вэньчан спросил одного монаха:
– Почему со мной вы так грубы, а с купцом так вежливы?
Монах ответил:
– А вы разве не знаете, что у нас, буддистов, принято относиться к плохому обращению как к неплохому, а к неплохому относиться как к плохому?
Тут Сюй Вэньчан, не говоря ни слова, дал монаху несколько крупных тумаков. Тот завопил от боли и спросил, почему постоялец побил его.
– А разве ты не знаешь, – ответил Сюй Вэньчан, – что у нас, конфуцианцев, принято относиться к битью как к небитью, а к небитью как к битью?
Лепестки солнечного лотоса
Долго скитался Абу Саид по миру, сам не зная, чего он ищет и в чем его предназначение. Однажды он зашел в одну индусскую деревушку, чтобы попросить у кого-нибудь немного риса и остаться на ночлег. Подойдя к ветхой хижине, Абу был встречен очень худым и высоким стариком. Отличаясь простотой поведения и гостеприимством, хозяин невольно вызвал к себе доверие, и, разговорившись, Абу поведал старику свою грустную историю. Он рассказал ему о своих сокровенных печалях, бесплодных скитаниях и неизменных разочарованиях.
Старик внимательно выслушал, немного помолчал и наконец сказал:
– Я помогу тебе, но ты не должен выходить из этой хижины, пока тебе не будет позволено. Посмотри, здесь нет ничего, кроме подстилки из старой соломы да закопченной лампы. И вот тебе задание: думай об огне. Через три часа я вернусь, чтобы выслушать тебя.
Абу Саид очень удивился, но не подчиниться требованию странного старика он не мог. Долго тянулось отведенное время. Юноша уже давно приготовил свой ответ и теперь сидел, скучая. Наконец старик вернулся.
– Огонь – это вещество, на котором готовят еду и согреваются в холодные ночи, – сказал Абу.
– Думай еще, – ответил старый индус. – Сказанное тобой слишком примитивно. Я приду с восходом солнца. Не спи!
Мучительно долгой была эта ночь для Абу, но наконец он дождался старика.
– Огонь – это горящие лепестки Солнечного Лотоса, упавшие с неба на землю, – сказал юноша.
– Твои мысли бедны и поверхностны. Думай еще, – сказал старик и, презрительно отвернувшись, ушел.
Абу Саид потерял счет времени; два раза всходило и заходило солнце с тех пор, как ушел старик, а он все еще ничего не ел и не пил. Казалось, он весь превратился в единственную мысль и сам стал огнем. Все его тело горело от жары, жажды и назойливых насекомых; голова уподобилась раскаленному шару, глаза налились влажным пламенем. Внезапно он понял, что, напряженно думая об одной вещи, он постиг самого себя. Он вдруг ясно увидел всю свою жизнь, и единственно верный путь, которым надлежало ему идти, теперь лежал как на ладони. Абу Саид загадочно улыбнулся и вышел из хижины. Старый индус, скрестив ноги, неподвижно сидел на земле. Он ждал его.
Некий монах по имени Фэн преследовал наставника Чжао-чжоу с намерением отобрать у него одеяние и чашу учителя.
Увидев это, Чжао-чжоу положил тогу и чашу на камень и сказал Фэну:
– Эти вещи – только свидетельства мудрости. Разве можно завладеть ими силой? Возьми их, если можешь.
Фэн попытался поднять одеяние и чашу, но они были тяжелы, как гора. Сгорбившись от стыда, Фэн сказал:
– Могу ли я назвать вас своим учителем?
Монах по имени Дачжу явился к наставнику Ма-цзу Даои.
– Откуда ты пришел? – спросил его учитель.
– Из юэчжоуского монастыря Больших Облаков, – ответил Дачжу.
– А для чего ты пришел сюда?
– Для того, чтобы постичь закон Будды.
– Не ценя богатства в своем доме, ты их отвергаешь. Зачем уходить так далеко? Мне нечего тебе дать.
Дачжу отвесил поклон и спросил:
– Но в чем богатство Дачжу?
– Спрашивающий меня сейчас и есть твое богатство, – ответил Ма-цзу Даои. – В нем все наличествует сполна и ничего не упущено. Пользуйся этим свободно, ибо богатства сии неисчерпаемы. Зачем искать их на чужбине?
Услышав эти слова, Дачжу наконец познал свое сердце. Подпрыгнув от радости, он горячо поблагодарил учителя и ушел.
Монах Чжиу Лянь любил журавлей. Их полет напоминал ему танец стрел, их грациозные осанки были подобны стеблям орхидей, качающихся на ветру, – Чжиу Лянь умел ценить красоту.
И вот в то время, когда монах жил на горе Яншань, кто-то, знавший о его пристрастии, прислал ему в подарок пару маленьких журавлей. Чжиу Лянь стал ухаживать за ними как самый чуткий влюбленный. Жизнь его превратилась в поэму.
Однако через некоторое время у птиц подросли крылья, и они уже могли улететь. Но Чжиу Лянь так боялся потерять своих любимцев, что в порыве отчаяния не сдержался и подрезал им крылья. Бедные журавли, предчувствуя усладу высоты, все пытались взлететь, но могли лишь прыгать, изгибаться и неуклюже валиться на землю. И всякий раз, когда птицы оглядывались назад, на свои обрезанные крылья, казалось, что они смотрят на Чжиу Ляня с глубоким укором.
В конце концов Чжиу Лянь забыл о своих страданиях – он только чувствовал страдание журавлей, которых сам лишил свободы. И он понял:
– Эти существа созданы для того, чтобы парить в поднебесье. Никогда они не захотят быть потехой для человеческих глаз и ушей. И даже самая сильная любовь к этим птицам не удержит их ни в каком земном дому.
Когда же крылья у журавлей отросли вновь, Чжиу Лянь отпустил их на волю. И долго он стоял на горе, провожая их полет. Он плакал и улыбался.
Как-то среди суфиев завязался любопытный спор: насколько может быть прост человек и насколько он готов принять чью-либо помощь, внутренне этому не сопротивляясь.
Аба Наджнун, один из суфиев, особенно отличавшийся тягой к тайнам психологии, заявил, что такой факт, как неуемная человеческая гордость, действительно может иметь место, и пообещал собранию что-нибудь продемонстрировать в пользу известной теории.
Здесь надо заметить, что Аба, безусловно, серьезно рисковал и, в общем-то, надеялся на авось, и тем не менее, как повествует предание, опыт состоялся.
Наджнун попросил привести к нему какого-нибудь безнадежного бедняка, которого в собрании никто бы не знал. Причем этот несчастный должен был прийти к Аба по лесной дороге, на которой философ распорядился оставить мешок с золотом.
И вот Наджнун встречает на опушке леса бедного человека и спрашивает:
– Любезный! Не находил ли ты чего-нибудь на дороге, что по праву могло бы стать твоим?
– Нет, почтеннейший, на дороге я ничего не обнаружил.
– Не может быть! – взволновались противники Наджнуна.
– Вы знаете, как только я оказался в этом чудесном лесу, – сказал бедняк, – я, надо думать, на какое-то время стал настоящим поэтом. Вы слышали когда-нибудь симфонию трав? А видели ли вы, как солнечные лучи, словно тонкие светящиеся стрелы, пронзают темную листву и пламенем ложатся на стволы? А как цветет дикий инжир?! Благоухание его цветов может сравниться разве что с ароматом глициний… Так что – нет! На дороге я ничего не заметил. Хотя – постойте! – кроме одного: ослепительных маленьких лужиц, которые под солнцем превращались в зажигательные стекла…
На несколько мгновений воцарилось молчание.
– Странный человек! – было всеобщее заключение.
Китайский посол был искусным рисовальщиком. Однажды он расхвастался перед высокоученым Куинем:
– Пусть трижды ударят в барабан; не успеют отгреметь три удара, как я нарисую какое-нибудь животное!
Куинь губы скривил, снисходительно улыбнулся и говорит:
– Пусть всего лишь один раз ударят в барабан, и не успеет он смолкнуть, как я нарисую десять животных! Вот оно, истинное умение! А то три барабанных удара и лишь одно-единственное животное. Эка невидаль. какое же это искусство!
Услышал китайский посол такие речи, распалился и вызвал высокоученого Куиня на состязание. Куинь согласился.
Настал день состязания. Лишь только раздался первый удар барабана, китайский посол схватил кисть и принялся усердно рисовать. А Куинь как ни в чем не бывало сидит себе отдыхает. Раздался второй удар барабана – Куинь по-прежнему отдыхает. Когда же ударили в третий раз, Куинь окунул в тушь все десять пальцев и провел на бумаге десять извилистых линий.
– Вот, пожалуйста, я нарисовал десять дождевых червей, – сказал он, подавая рисунок.
А китайский посол все еще дорисовывал свою птичку.