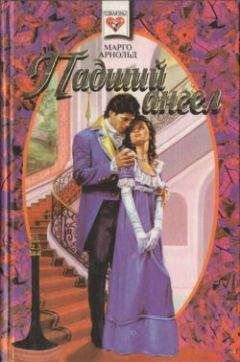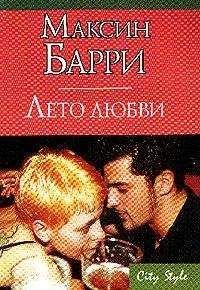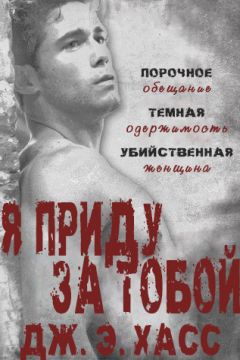Марта почти насильно заставляла меня есть, и я покорно глотала пищу, не чувствуя ее вкуса. Я ела, спала, двигалась и выполняла повседневные дела механически, как автомат, я не разговаривала, если только ко мне не обращались по нескольку раз. Горе, затуманившее мою душу, мое сердце и мой разум, окружило меня глухой стеной, начисто изолировав от всего остального мира.
Списки погибших при Ватерлоо были длинными, и я нашла в них множество людей, которых знала, с которыми смеялась или которыми была увлечена. Нед Морисон погиб у Катр-Бра, Ричард Прескотт – возле своей пушки у Ле-Ге-Сент. Таким образом даже сама фамилия Дэвида была вычеркнута из списков потомства. Жизнь и я – мы как будто сговорились против него. Однако все остальные, пусть даже близкие мне имена не будили во мне никаких чувств и ничего для меня не означали. Они не могли сделать еще тяжелее то горе, что и без того превышало меру человеческих сил.
Торжествовала вся Европа, в честь великой победы при Ватерлоо не умолкали колокола. Континент был спасен, Наполеон и Франция – раздавлены. Теперь наконец воцарится мир на все времена, конец войнам, крови и смерти. Но мой мир был мертв, я утратила самое дорогое, и всеобщее ликование лишь усиливало мою скорбь.
Марта и Джереми изо всех сил старались извлечь меня из моей ужасной тюрьмы, сломать барьер, который отделил меня от них, но безрезультатно. Я двигалась по жизни подобно призраку, отпугивая собственных детей, заставляя их от страха замыкаться в себе. Джереми пытался вытащить меня в Лондон, думая, что там, вдали от дома, где все напоминает о прежней счастливой жизни, я вновь оживу и это поможет снять заклятье. Но ничто не влекло меня в Лондон, так же, как и в любое другое место на этом свете, и я не поехала.
Заклятье нечаянно снял Артур, спасши меня тем самым от окончательного безумия. Близилась зима, и было так холодно, что он уже не мог играть на дворе и поэтому скакал по залу – шумно, как это умеют только мальчишки. Прыгая, он случайно налетел на столик, где стояла белая фарфоровая ваза из Танбридж-Уэллса. Ваза упала на пол и разбилась. Уже не помню почему, но к этой вещи я была особенно привязана. Поднявшись, словно лунатик, я подошла к осколкам и уставилась на них невидящим взглядом.
– Она разбилась… совсем разбилась, – бормотала я. – И ее уже не склеить…
А потом я заплакала. Я плакала целых три дня. Отчаявшись успокоить свою хозяйку, Марта уложила меня в постель и стала пичкать лекарствами, но я продолжала плакать. Когда же я наконец остановилась, то обнаружила, что снова вернулась к жизни, а барьер, отделявший меня от окружающего мира, исчез. Странным было лишь одно: все, на что я смотрела, было серого цвета. С тех пор и до сегодняшнего дня я больше никогда не могла различать цвета.
Поднявшись с постели, я впервые за несколько месяцев посмотрела на себя в зеркало и… не узнала. Я исхудала так, словно была в последней стадии истощения, моя высохшая и поблекшая плоть туго обтягивала кости, волосы утратили цвет и были серыми, как шинельное сукно. Из зеркала на меня смотрела уже не Прекрасная Элизабет, а полуживая женщина средних лет. В сумраке Друри-лейн мне встречались экземпляры и получше, поэтому я радовалась, что Дэвид не видит меня такой.
Я была знакома со страданием уже давно, но его уроки впоследствии стерлись благодаря годам счастья. Теперь мне предстояло снова повторить их. Как было раньше? Я должна была растить своего сына и ждать. Но в ожидании была хотя бы надежда. Теперь надеяться не на что.
Впрочем, надежда оставалась и сейчас. Она заключалась в кольце, надетом на мой палец. «Как были мы вместе при жизни, так будем и после нее» – эти слова, выбитые на колечке, возможно, были не слишком поэтичны, но полностью отражали мои теперешние чувства. Теперь моя надежда лежала за гранью жизни, потому что только там я могла встретиться с Дэвидом.
Но и это было не так просто. Мне снова предстояло растить сына и ждать. «Храни детей до моего возвращения», – сказал он. Это было еще одной моей миссией помимо ожидания. Мне оставалось только молиться, чтобы ожидание не оказалось слишком долгим.
Уставший Джереми вернулся в Лондон, несомненно, мучаясь от мысли, что вместо отдыха на старости лет он вновь вынужден возиться со мной без всякой надежды на скорое избавление от этих хлопот.
Еще более уставшая Марта стала все чаще приводить ко мне детей, которых я перед этим основательно запугала. И постепенно они оттаяли: первым Артур, поскольку он был старше и лучше понимал, что происходит, а затем и Каролина, потому что ее нежному сердцу нужен был наперсник. Она уже начала забывать человека с серебряными волосами, который обожал ее больше всего на свете.
Я снова начала интересоваться собой. Дэвид всегда гордился тем, как я выгляжу и как одеваюсь, поэтому мне и теперь не хотелось позорить его. От той Элизабет, что появлялась на приемах сэра Генри в своем пурпурном бархатном платье, осталось совсем немного. Но за тем, что все-таки осталось, я стала ухаживать. Пусть теперь я носила только черный цвет, что в последние пятнадцать лет водопадом захлестнул всю Англию, но у меня еще оставалось много драгоценностей, и я украшала себя их блеском, пытаясь воскресить великолепие дней, которые когда-то знавала.
Мое возрождение началось еще до отъезда Джереми. Заметив это, он с кривой улыбкой сказал:
– Мне приятно видеть, что твой флаг вновь развевается, Элизабет, даже если он поднят только наполовину. Сообщи мне, когда ты будешь готова поднять его полностью. Мы с тобой сплетем такие заговоры, о которых миру еще не приходилось слышать.
– Нет, Джереми, моему флагу уже никогда не суждено подняться выше, чем сейчас, – покачала я головой.
– Знаю, – задумчиво ответил он, – но ведь надежда еще никогда никому не повредила, верно?
– Ты, наверное, мечтал о мирной и спокойной старости? – слабо улыбнулась я. В ответ на это он печально покачал головой.
– Я думаю, она все равно не пришлась бы мне по вкусу.
С отъездом Джереми меня охватило одиночество, в приходе которого я не сомневалась и которого очень боялась. Это не было одиночество тела, поскольку вместе с Дэвидом во мне умерли все желания. Это было одиночество разума. Мне не хватало человека, с которым я могла бы делиться событиями каждого минувшего дня. При всем моем уважении к Марте, она для этого не годилась, поскольку была молчуньей по своей природе, а ее рассудок всегда являлся для меня закрытой книгой. Я даже подумывала о поездке в Лондон, но детям, которые любили Спейхауз и нуждались в нем, там было нечего делать, поэтому я отказалась от этой мысли.
И вновь вмешались парки, прихотливо плетя нить моей жизни, но на этот раз к добру. Начинался 1816 год. Марты не было, она находилась на отдыхе, в котором так нуждалась, поехав навестить одного из своих сыновей и постоянно растущую стайку внуков. Поэтому в кабинет, где я в тот момент писала письма, вошла временно нанятая мною служанка и сообщила, что в зале меня ожидает посетитель.