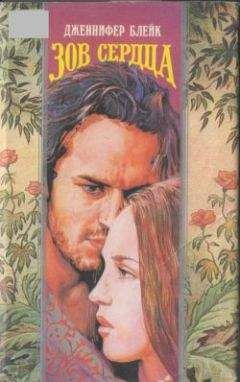Этот джентльмен был семейным врачом и хорошим специалистом, но сия болезнь была за пределами его искусства. Состояние больного ухудшалось день ото дня, и мистер Дарли вынужден был признать его опасным. Если так долго не было изменений к лучшему, значит, конец был неизбежен.
Именно в этот тяжелый период Флора прибыла на Вимпоул-стрит.
Весь день она просидела у кровати мужа, за занавеской, слыша, как он ворочается, его бессвязную речь, в которой часто звучало ее имя, но чаще — профессиональные выражения с латинскими словами. Она больше не пыталась сделать так, чтобы он узнал ее. Няня сказала ей, что ему необходимы покой и тишина, и Флора беспрекословно выполнила эту просьбу. Безумно переживая за этого страдальца, она тихонько сидела в углу и беззвучно молила Бога о его спасении. Только после семи часов она подумала о бедной миссис Олливент, спокойно, наверное, ожидающей ее и сына на вилле. «Бедная мама, — сказала она себе, — я должна телеграфировать ей. Как жестоко с моей стороны, что я не сделала это раньше, как жестоко отстранять ее подобным образом от больного сына». Она выскользнула из комнаты, сбежала вниз к старому слуге и послала его отправить телеграмму следующего содержания:
«Дорогая мама, Гуттберт очень болен. Приезжайте».
В восемь часов пришли мистер Дарли и доктор Вайн с Кавендиш-сквер. Как сильно забилось ее сердце, когда эти бравые седые джентльмены вошли в комнату, склонились над кроватью больного, приказав принести свечу, и исследовали пациента с профессиональной бесцеремонностью, которая сейчас казалась кощунственной. Они выслушали его дыхание, простучали грудь и спину, и проделали еще много других манипуляций, затем взглянули друг на друга и пошептались немного, как показалось Флоре, довольно мрачно. Она бессильно опустилась на стул, не сказав ни слова, а доктора и не подозревали о ее присутствии, пока сиделка не сказала им, что молодая миссис Олливент дома и желала бы, чтобы ей позволили ухаживать за мужем.
Оба джентльмена повернулись к ней с радушием и пробормотали несколько добрых слов, но слова эти как-то вяло звучали.
Флора молча выслушала их и затем вышла вместе с ними из комнаты.
— Джентльмены, — сказала она жалобно, когда они оказались вне комнаты, — скажите мне правду! Мой муж умрет?
— Моя дорогая миссис Олливент, — сказал доктор Вейн, который был частым гостем на Вимпоул-стрит во времена ее счастливой замужней жизни, — пока сохраняется хоть малейшая искра жизни, всегда есть луч надежды, но я боюсь, я думаю, наш друг умирает.
Она посмотрела на него, застыв на несколько секунд, а затем сказала тихо:
— Спасибо, что сказали мне правду.
Она опять вошла в комнату мужа и, забыв в своей печали о том, что ему нужен покой, упала у кровати на колени.
— Моя любовь, моя любовь, — говорила она всхлипывая, — моя потерянная любовь! Неужели не будет мне прощения на небесах за мой грех?
Ее голос, ее скорбь рассеяли завесу бессознательности. Гуттберт открыл глаза и взглянул на нее, она почувствовала, что он узнал ее.
— Флора! — вскрикнул он слабо.
Не было ни удивления, ни радости в этом голосе. Из-за слабости тела и рассудка у него не хватило сил на эмоции.
— Моя любовь, это твоя жена, твоя вернувшаяся жена.
Она вспомнила свои слова, сказанные в саду тем роковым летним вечером, слова ненависти и презрения, острые, как меч, которые нельзя было забыть.
— Мой милый, я была несправедлива и жестока, — говорила, всхлипывая, Флора. — Спасибо Богу, что я смогла посмотреть на все другими глазами. Я должна сказать тебе кое-что, Гуттберт, то, что успокоит тебя. О, моя любовь, вся моя жизнь будет искуплением моего греха.
Он посмотрел на нее затуманенным взором некоторое время, а затем тихо ответил:
— Слишком поздно, моя дорогая. Кувшин разбился у фонтана.
Однажды в добрый час Джарред Гарнер сделал остановку на своему пути к погибели и повернул стопы свои к трудному и тернистому праведному образу жизни, не забывая, конечно, насовсем с блаженных минутах, которые дарует человеку отдых.
Вид своей дочери, сказочно преобразившейся за три года счастливой замужней жизни, мысль о том, что его родная Лу стала леди — всё это весьма сильно повлияло на него.
— А ну это все! — воскликнул он после неожиданного посещения миссис Лейбэн дома на Войси-стрит. — Будь что будет, я не подведу Лу, никакой прощелыга не сможет больше оскорбить ее, назвав отца тунеядцем. Мне вполне хватит тех трех сотен в год, которые мне присылает Лейбэн, буду жить как художник или джентльмен. И первый шаг в этом направлении, — добавил Джарред с некоторой злобой, — будет тем, что я закрою этот тряпичный магазин внизу.
Магазин поношенного белья служил яблоком раздора между миссис Гарнер и сыном. Эта торговля была занятием, против которого решительно бунтовала душа Джарреда. Он ненавидел висящее в окне поношенное белье, подозрительно относился к женщинам, которые приходят сюда для того, чтобы купить или продать что-нибудь. Эта торговля могла, конечно, приносить несколько шиллингов в неделю. Но те слухи, которые ходили об этом магазине, не могли быть скомпенсированы той суммой, которой едва хватало на то, чтобы заплатить молочнику или побаловать себя покупкой какой-нибудь мелочи.
Однажды Джарред спустился вниз в магазин, где с подозрением осмотрел лежащие там вещи, имея весьма щеголеватый, по мнению миссис Гарнер, вид: мягкая голубая газовая рубашка с букетиком из мятых искусственных камелий, пара белых сатиновых туфель, красная вельветовая шляпа, украшенная на вершине искусственным под соболь мехом, которая весьма подходила для наступающей зимы, облачали его.
— Я бы хотел свалить это в кучу и продать, будет выручка фунтов в пять, — размышлял Джарред.
Миссис Гарнер появилась из-за шторки и, увидев сына, разочаровалась. Она только что читала семнадцатый номер «Мабл Мандевилл, или Смертельный ордер герцогини», сидя в углу, укрытая от осенних пронизывающих бризов бархатным пальто и парой висящих на вешалке платьев.
— Ты не можешь иметь что-либо против этой торговли, — сказала она. — У тебя была своя выгода в один фунт семнадцать шиллингов и шесть пенсов от продажи сатинового платья и если бы не те деньги, то мы бы остались без капли воды даже для чая. Сборщик налогов не обладает завидным терпением.
— Все это очень хорошо, мама, но что мы еще получили от этого магазина, кроме фунта и нескольких шиллингов? Полкроны или три шиллинга — это самое большее.
— Но все же помощь, Джарред.
— Возможно, и так, но я думаю, мы обойдемся без такой помощи. Мне всегда не нравилось это занятие и те леди, которые ходят к нам, будь то старые вдовы или кто-либо похуже, а теперь, когда Лу стала самой настоящей леди, я окончательно решил прикрыть эту лавочку. Теперь ты можешь сложить все это в кучу и продать.