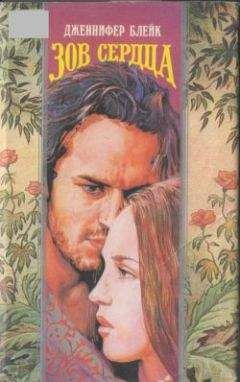Задняя комната на этом этаже принадлежала миссис Олливент и сейчас оказалось запертой. Флора стремительно подошла к ней и открыла дверь — именно здесь она очнулась в один из зимних дней после долгой ночи забытья. Да, он был здесь, на той кровати, на которой лежала и она, когда болела. Она увидела его худую фигуру под одеялом. Няня сидела за столом у окна. Часы тихонько тикали на камине, медленно мерцал огонь, тут и там стояли бутылочки из-под лекарств, в общем здесь было собрано оружие, посредством которого жизнь борется со своим соперником — Смертью.
Он бодрствовал. Взгляд его был обращен к двери, в которую вошла Флора, но каким отчужденным он был. Он смотрел на нее и не узнавал.
Она подошла к кровати и опустилась на колени, взяв его горячие руки в свои, ласково что-то шепча ему и целуя сухие губы. Но тщетно. В целом мире никого более незнакомого, чем она, не могло быть для него.
— Еще одна няня! — сказал он утомленно. — Что за толк в этой суете?
— Не няня, Гуттберт, твоя жена, твоя скорбящая жена вернулась, чтобы выходить тебя. Взгляни на меня, дорогой. Твоя верная жена вернулась и никогда больше не оставит тебя.
Он посмотрел пристально на нее своим измученным взглядом, совершенно не узнавая ее.
— Что за толк от всех этих людей? — воскликнул он. — Я бы лучше предпочел находиться в госпитале. Уйдите, пожалуйста, — сказал он, обращаясь к Флоре, — и оставьте меня в покое, если можете. Вы всегда так мучаете меня.
Няня, которая встревожилась при виде Флоры, теперь очнулась и стала выполнять свои профессиональные обязанности.
— О, мэм, пожалуйста, если можете, не разговаривайте с ним. Врачи сказали, что он не должен ни о чем беспокоиться.
— Но я его жена.
— Да, мэм, но ваш столь неожиданный приход может произвести на него шокирующее действие, если он узнает вас. Возможно, это к лучшему, что он не узнал вас.
— К лучшему! — повторила Флора, глядя перед собой. — А узнает ли он меня вообще когда-либо?
— О, да, вам не стоит беспокоиться, по этому поводу, мэм, — ответила приветливо няня, это было для нее так просто — сохранить хорошее настроение. Вскоре он придет в себя и вспомнит вас. Я видела куда более серьезные случаи.
— Но ведь он серьезно болен, не правда ли? — спросила Флора с отчаянием.
— Доктора беспокоятся о нем, мэм, но не все так уж плохо, это не безнадежный случай, Вы не должны отчаиваться.
— Что вы здесь пишете?
— Я лишь веду журнал, мэм. Доктора желают, чтобы я записывала все, что принимает больной. Все лекарства, я даю ему в этом двухунциевом стакане. Очень важно, чтобы он правильно питался и оставался в покое.
— Он не в себе?
— Нет, мэм, не очень, но иногда он говорит странные вещи. Он, в основном, говорил о вас последние несколько дней и все время думал, что вы в комнате.
— А теперь, когда я пришла, он не узнает меня, — как все это тяжело.
— Он постепенно узнает вас, мэм, — сказала няня уверенно. — Он поправляется очень быстро.
— Если бы вы позволили мне делать для него что-нибудь. — Если бы я могла быть полезна, — сказала Флора.
— Конечно, мэм, здесь есть, что делать. Вы могли бы мне помочь, пожалуй, когда я буду давать ему лекарства, вино или бульон. Ему очень не нравится принимать что-либо и иногда бывает довольно трудно упросить его сделать положенные процедуры.
— Я с радостью помогу вам, — сказала, оживляясь, Флора. — Я просто буду чувствовать себя совсем несчастной, если совсем не смогу быть полезна. Можно, я останусь в комнате? Я буду вести себя спокойно.
Все это было сказано так тихо, что звук их голосов едва ли мог, достичь постели больного, беспомощно двигающего головой и руками.
— Доктор сказал, чтобы больной оставался в полном покое, мэм, и никто, кроме няни, не может присутствовать в этой комнате, но если вы не будете разговаривать и ходить, я думаю, вы можете оставаться.
Это казалось тяжелой вещью — запретить жене сидеть в комнате рядом с больным мужем. Это была не та болезнь, которая могла бы сама по себе быть опасной. Просто доктор потерял интерес к жизни и позволил ей тихо ускользать от него. Он растратил свое здоровье длинными бессонными ночами, он перегружал себя и был полон горькой печали. Он растратил свои силы на помощь другим людям, не оставив себе ничего. Жизнь без Флоры казалась ему ничтожной. Он слишком любил жизнь, чтобы уйти из нее с помощью синильной кислоты или пистолета, но и не был очень уж верующим человеком, чтобы с верой и надеждой ждать своего конца, и поэтому был очень рад, когда почувствовал, что силы покидают его и что жить ему осталось немного. Что за польза была бы от пустого будущего, лежащего между разрушенными надеждами я могилой, если жена ушла от него? Он лишился своего ребенка. И у него никогда больше не могло быть другого дитя. Он заработал уже более чем достаточно для того, чтобы обеспечить достойное проживание своей матери. И не было, причины, по которой он мог желать продолжать жить ни ради себя, ни ради других. Поэтому когда он обнаружил, что силы покидают его и лихорадка, опасность которой он прекрасно знал, крепко завладела им, он испытал не сожаление, а скорее радость.
«Возможно, она и взгрустнет немного, — говорил он себе, — когда кто-то скажет ей, что я мертв, у нее будет небольшое чувство боли за человека, который любил ее, как Отелло. А затем другая, новая прекрасная жизнь откроется перед ней, и потом, когда у нее будет другая семья, она, быть может, оглянется на прошедшие дни, проведенные со мной, и они покажутся ей лишь незаконченной главой в книге ее жизни. Для меня это была целая книга, а для нее, наверное, лишь эпизод».
Так думал Гуттберт Олливент, когда пришел день, и у него более не было сил делать что-либо. Это произошло еще до того, как он почувствовал, что у него начинает мрачнеть рассудок, когда он осознал, что побежден. Физическая слабость вряд ли могла оторвать его от дел, он цеплялся за работу, как за единственное, что осталось у него в жизни, но когда почувствовал, что больше не в состоянии написать простой рецепт, он должен был признать, что его рабочие дни закончились.
— Моя карьера окончена, — сказал он себе.
Он поднялся в свою комнату на третьем этаже в один из сентябрьских полдней и лег на кровать, спокойно признав то, что дела его земные окончены. Он позволил жизни постепенно покидать его, без малейшей попытки сохранить в себе угасающее пламя и лишь из уважения к старому слуге позволял вызвать к себе мистера Дарли.
Этот джентльмен был семейным врачом и хорошим специалистом, но сия болезнь была за пределами его искусства. Состояние больного ухудшалось день ото дня, и мистер Дарли вынужден был признать его опасным. Если так долго не было изменений к лучшему, значит, конец был неизбежен.