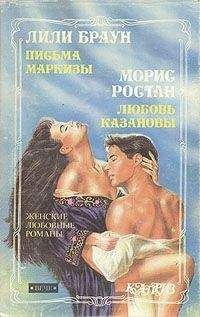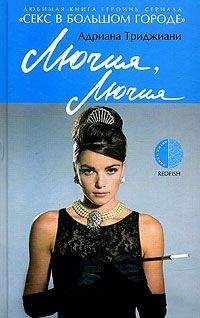Уверенный, что вы принимаете его за другого, как он объяснил мне, «я старался ей угодить так, что по правде совсем другой награды заслуживал, чем та, какую получил». Он оставил вас, не произнеся ни слова, чуть только забрезжил рассвет, боясь, чтобы вы его не узнали. Очень понятно, что вы приняли лакея за меня — ночью все кошки серы, я поздравляю вас с тем удовольствием, какое вы получили от него и какого я вам, разумеется, не доставил бы. В общем, я предупреждаю вас, что бедный малый вне себя и собирается вам вскоре нанести визит, чему я помешать не в праве. Советую вам быть по отношению к нему кроткой, терпеливой и великодушной… Потому что он решительней испанца, он огласит это происшествие, и вы почувствуете последствия этого. Он сам сообщит вам свои требования, и вы, конечно, в целях предосторожности, удовлетворите их».
Я виноват, что эта история немножко пахнет казарамами, и скорей, подходит к академическому легкомыслию Кребильона-сына, чем к трагическому легкомыслию Мюссэ… Но все равно, такая, как есть — она показывает нам живого, реального Казанову, немножко грубоватого, правда, но пышущего итальянской жизнью, всегда заботящемуся не быть проведенным и обманутым, а быть тем, «кто смеется последним».
VII. Победа над Вольтером
После любопытного приключения в Солотурне Казанова уезжает в Верн в обществе своей домоправительницы, этой хорошенькой мадам Дюбуа. С ней он был и в Берне, и в Базеле и, наконец, в Лозанне, где они расстались под швейцарским небом, серым и тусклым, словно его отражение в озере.
Не без жестокого отчаяния, одного из тех очаровательных отчаяний, которые составляют его секрет и никогда не продолжаются больше нескольких часов — прелестная сценка «под занавес» между несколькими последовательными, а иногда и одновременными любовными приключениями, — Жак соглашается на брак своей подруги с дворецким месье де Шавиньи. После этой разлуки, нарушающей не только покой его сердца, но, что гораздо хуже, его привычки, — Казанова едет в Женеву, и там у него значительная встреча — на этот раз не с женщиной, а с Вольтером.
В Женеве он останавливается в гостинице «Весов» и очень доволен своим помещением. Подойдя к окошку, он вдруг видит нацарапанные алмазом на оконном стекле слова: «Ты позабудешь Генриетту».
В то же мгновение он вспомнил ту самую минуту, когда Генриетта написала эти слова, и его сердце забилось от жгучего воспоминания. Он, любивший всех женщин и смотревший на них, как на одалисок своего гарема, он, любивший женщин во всех странах света, мог ли он остановиться в какой бы то ни было гостинице, где он когда-нибудь не любил бы какой-нибудь Генриетты? И однако — он вспомнил.
В этих своих бесчисленных и торопливых победах, в этой непрерывной процессии память его классифицирует лица. Он неверен, но он никогда не забывает. Он не позволяет своему сердцу долго биться при виде одного и того же лица. Но если это лицо вновь появляется перед ним, будь это хоть через тридцать лет, — при виде его сердце его начинает снова усиленно биться. И в этот день, опять очутившись в Женеве после долгого отсутствия, и найдя имя Генриетты на верном стекле, он хотел бы бежать на поиски за ней и снова доказать ей свою любовь…
Однако этот энтузиазм задним числом длится недолго, Казанова богаче многочисленностью своих ощущений, разнообразием переживаемых впечатлений, чем продолжительностью их.
На другой день утром он отправляется к банкиру Троншен, у которого находились все его деньги. Проверив с ним счета, банкир дает ему аккредитив на Марсель, Геную, Флоренцию и Рим. Казанова берет только двенадцать тысяч франков наличными. У него, впрочем, всего оставалось триста тысяч франков. Но с этим далеко не уедешь. Покончив с этим, он возвращается в гостиницу, он горит нетерпением повидаться с Вольтером.
Казанова не понял Руссо! Поймет ли он лучше Вольтера? Вряд ли они созданы, чтобы понять друг друга. Может быть, у обоих есть где-то в глубине одинаковая суховатость, а в Вольтере кроется «Казанова Идеи»… К тому же, Казанова хвалится, что он ученик великого человека…
Тогда как Жан-Жак остался для него необъяснимым, гений Вольтера все же более доступен ему — не только своими свойствами, но и своими результатами. Нищий философ, который живет перепиской нот, что он такое для грансиньора, путешествующего всегда не иначе, как в сопровождении лакея-испанца, и полного штата слуг, дающего ужины, покупающего шелковые чулки?
То ли дело, тот двор кавалеров и дам, среди которого живет месье де Вольтер, аристократическая среда, которая и ему самому придает какой-то аристократизм, окружая его пышностью и торжественностью, так и говорящими на сто миль кругом, что вот, мол, «великий человек».
Как мы далеко от маленького домика в Монморенси, где принц Конти пренебрегает ужином в компании хозяйки… Да, конечно Казанова — утонченный ум, он достоин оценить «Новую Элоизу», — он, проливающий слезы при виде дома Лауры… Но как бы он ни был утончен, он принадлежит к тем, для кого великим человеком может казаться только или миллионер, или покойник. Надо быть могущественным или же похороненным, для того, чтобы он поверил величию. Всякий гений без позолоты кажется ему немножко неудачником. И вот, наши два циника беседуют друг с другом… Вот ученик перед учителем.
— Месье де Вольтер, это прекраснейший день моей жизни. Вот уже двадцать лет, как я ученик ваш, и мое сердце переполнено радостью, что я наконец вижу моего учителя.
— Прошу вас, сударь, почитайте меня еще двадцать лет, и по истечении их, принесите мне плоды этого почтения в виде гонорара… — ответил ему владелец Фернея.
Казанову нельзя взять врасплох, он парирует:
— Очень охотно, с условием, что вы дождетесь меня.
Так продолжается беседа, легкая, пикантная, немного терпкая… Переходят от стихов графа Альгаротти к «Многочисленности миров» Фонтенеля, разбирают какую-то вещь аббата Лазарини, пробуя набросать философию сонета. Останавливаются на Ариосто. Казанова утверждает, что это единственный итальянский поэт, которого он любит, позабыв своего дорого Петрарку. Впрочем, может быть, он считает, что Петрарка не поэт, но что гораздо выше, любовник?
Вольтер, нападавший на Ариосто, обещал Казанове изменить свое мнение и прочел ему перевод стансов Ариосто, начинающихся стихами:
«Quind avvien che traprinerpe e Signori…»[1].
Единодушные рукоплескания присутствующих служат Вольтеру благодарностью. По окончании чтения племянница Вольтера, мадам Дени спрашивает у Казановы, не находит ли он, что стихи, которые только что продекламировал ее дядя, принадлежат к лучшим творениям поэта.