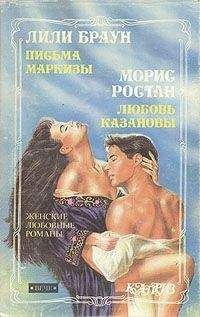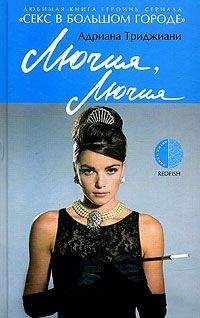Они встречаются, раздражают друг друга и расстаются слишком сходные между собой, чтобы сойтись, но все же это самая интересная встреча Казановы в Женеве.
Впрочем, по пути есть иные победы. Три молодых девушки, которым его представляет синдик и которым он, как в волшебной сказке, дарит три золотых шарика, — доступные нимфы, украшающие его пребывание в Женеве и позволяющие ему проделывать с собой, как со столькими другими, «все безумства, какие только можно изобрести».
Он уезжает в Экс, в Савойе, о котором он уже пишет: «Экс — прескверное местечко, куда к концу лета минеральные источники привлекают весь высший свет».
В единственной гостинице городишка он встречает многочисленное общество — эксцентрических и доступных дам, кавалеров, чьим единственным ресурсом, кроме прелестей их подруг, являлись карты. Казанова, чьи карманы были полны благодаря Троншену, согласен почтить как следует прелестных дам, но не согласен, чтобы его грабили. Поэтому он уезжает из Экса, не говоря никому ни слова, и через Шамбери отправляется в Гренобль.
Тут он сразу увлекается тремя гостиничными служанками и девицей Роман, чью свадьбу он расстраивает, благодаря чудесному гороскопу. Ну да, этот священник, поэт, коммерсант, живописец по шелку, ученик Вольтера, кудесник при мадам д'Юрфэ, изобретатель лотереи — внезапно делается астрологом.
И чтобы убедить м-ль Роман сохранить свое девичество для королевской любви, как вторую Помпадур, он предсказывает ей, что она станет возлюбленной Людовика XV.
Изумительный гороскоп, в котором самое изумительное — даже в его собственных глазах — то, что его предсказание сбывается. Действительно, м-ль Роман, задевши трон совсем близко, станет любовницей Людовика XV. Она одна из фавориток этого короля, которого не оценили по достоинству, как душу, отразившую так чудесно весь XVIII век, с его разочарованностью, с его блестящим и испорченным умом, хранящий в своей развращенности какую-то пресыщенную мудрость.
Он первый понял, быть может, смерть. И во всяком случае первый ощутил в своей сложной и тревожной душе всю современную меланхолию — он, единственный, хотя и не совершенный, но живой человек во всей династии королевских манекенов, незначительных, как малые буквы. И, конечно, только справедливо, чтобы этот король-художник, склоняющийся над женщиной, как над дивным произведением искусства, хоть одну из своих возлюбленных получил из рук Казановы.
Из Гренобля он спешит в Авиньон и там останавливается только для того, чтобы посетить Воклюз. Дивная минута, когда как будто бы возвращается к нему нежданно его юность.
В обществе одного юноши, Дольчи, и госпожи Сюар он опять совершает то паломничество, которое уже совершил когда-то. Они оставляют экипаж в Апте и пешком идут к источнику, где в этот день как раз было большое стечение любопытных. Источник вытекает из огромной пещеры, которая, по его словам, находится у основания остроконечной скалы футов ста в вышину и в ширину. Пещера в половину ниже, а вода вырывается из нее в таком изобилии, что здесь этот источник уже имеет право называться рекой. Это Copra, впадающая в Рону под Авиньоном. Те, кого пугает эта вода своим черным цветом», не соображают, что эту мрачную окраску сообщает ей темнота в пещере. Налетает внезапная минута задумчивости, мечтательное настроение одинокого любовника… И он шепчет божественные стихи:
«Чистые светлые струи, в которые погружает свое прекрасное тело та, кто одна мне кажется женщиной…»
Он шепчет их — он, для которого все женщины — вплоть до солотурнской дурнушки были женщинами. Он шепчет эти строки посвященные единой любви, выбору всей жизни… И хочет подняться на вершину той скалы, где стоял дом Петрарки.
О, эти слезы Казановы, смотрящего на развалины дома Петрарки!.. Над чем плакал он в воклюзском уединении, на юге Франции, звенящем цикадами?.. Ошибаюсь я или нет? Не промелькнуло ли беспокойство в его упорном преследовании?.. Не было ли следов скорби в этом эпикурействе? Не жила ли тоска по любви в этом сердце, пресыщенном наслаждением? Может быть, все эти страстные бросания от одной к другой были только желанием любить так, как любил Петрарка? И не над этим ли плакал Казанова перед развалинами дома в Воклюзе?
Он плачет. Плачет, как Лео Аллатиус, при виде могилы Гомера.
Над этим домом в развалинах, еще хранящим отблеск царицы грез поэта, его слезы, может быть, наиболее искренни. Ни над одной из своих настоящих возлюбленных не проливал он таких искренних слез.
«И в смерти казался прекрасным ее дивный лик…», — говорит Петрарка о Лауре.
В этих развалинах ее былого приюта образ ее встает перед Казановой таким прекрасным, что он кидается на немые камни, как бы для того, чтобы обнять их, лобызает их и обливает слезами, стараясь воскресить оживлявшее их божественное дыхание…
Кажется, что он сам любил эту Лауру, такой проникновенный стон страсти срывается с его уст от невозможности хоть на миг воскресить исчезнувшее видение…
Странное превращение! Неужели же у развратника есть настоящее сердце? И что такое — это отчаяние у развалин в Воклюзе? Возмущение души, черствой против воли, ревниво жаждущей любить так, как умел Петрарка, или скорбь соблазнителя, который, думая об исчезнувшей красоте, приходит в отчаяние, не считаясь со временем, как он не считался с пространством, от того, что ему не суждено любить умершую красавицу, навсегда остающуюся для него неведомой?
VIII. Повинуясь только своей фантазии…
Повинуясь только своей фантазии, Казанова опять взялся за свои бродяжнические и лихорадочные скитания по странам и по сердцам. Лихорадка эта, впрочем, не грозила ему гибелью — она была в его натуре.
После посещения Воклюзского источника он возвращается в Италию, через Марсель, Тулон и Ниццу. Наверно по пути приостанавливается, чтобы вдохнуть в Антибе солнечный запах мимоз? Я не могу не думать, что юг Франции наверно нравился ему — он ведь похож на Италию без души.
Не могу подумать, что он не любил ленивую Ниццу с ее старыми улицами, розовыми домами и стоящими, как часовые, пальмами. Что он не любил окидывать улыбающимся взглядом эту ослепительную природу без теней, слишком блестящие декорации неиграющейся пьесы, в которых жизнь похожа на репетицию еще без костюмов!
Так и вижу, как он фланирует по этим слишком солнечным улицам, грустным отсутствием всякой грусти, которые от жары кажутся чрезмерно натопленной комнатой больного, и где солнце преувеличивает! Может быть, они гармонируют с его чувствами? Может быть, ему тут не мешает его постоянная дисгармония, заключающаяся в том, что он не умеет отдать своего сердца?