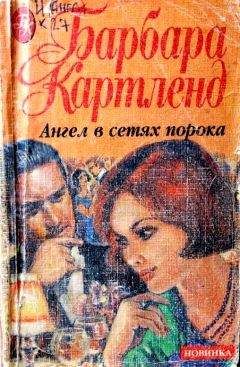Потом, взяв за подбородок, откинул назад мою голову и внимательно посмотрел мне в глаза. Внезапно у меня возникло странное ощущение, что сейчас произойдет нечто потрясающее.
Выражение лица Томми было столь необычно, в его колючем взгляде промелькнуло что-то такое, что заставило мое сердце невольно дрогнуть, а предчувствие — превратиться почти в уверенность. Но Томми вдруг отдернул руку, бросился в другой конец комнаты и заиграл на пианино. Я была в полном замешательстве, не знала, что и сказать, вдобавок граммофон и пианино издавали такой невероятный шум, что мы все принялись хохотать. Так Томми больше ничего и не сказал мне.
Кажется, минула вечность с тех пор, как я его видела в последний раз, хотя в действительности прошло всего часов восемь. Они с Тельмой приехали провожать меня на Gare du Nord[3] и принесли дивные розы. (Теперь они завяли и совсем поблекли.) Я, наверно, выглядела не лучшим образом, так как ужасно плакала. До того ненавистна была мне предстоящая разлука с Тельмой, с которой мы стали почти как сестры. Она уезжает в Америку, где ей предстоит дебютировать осенью.
В момент отправления поезда я протянула Томми руку, он поцеловал ее, как настоящий француз, и сказал:
— Au revoir[4], Максина! Мы с тобой обязательно увидимся, очень скоро… как только ты вырастешь!
Не знаю, что он хотел этим сказать, — ведь я и так уже совсем взрослая. В конце концов, мне почти девятнадцать — почтенный возраст, особенно если учесть, что нынче большинство девушек выходят в свет в семнадцать.
Я упустила почти два года, однако мама проявила удивительную твердость в этом вопросе. По-моему, из-за того, что не имеет возможности сама меня вывести.
Странное дело, но мне почему-то кажется, что мама не симпатизирует тетушке Дороти. Когда мы все вместе жили в Сомерсете, между ними не было особой дружбы.
Ах, какое тогда было прекрасное время! Мы были очень счастливы — по крайней мере я, так как у меня был пони, а у мамы — сад, индюшки, цыплята, если же ей хотелось отправиться на охоту, всегда находились желающие подсадить ее в седло.
А потом в один прекрасный день она вернулась со званого обеда вся раскрасневшаяся и взволнованная. Ее сопровождал высокий, вполне симпатичный, только староватый господин. Мама сказала:
— Ральф, дорогой, это моя крошка Максина.
Я была не такой уж и крошкой, но замечала, что люди всегда говорят о своих единственных чадах в патетическом тоне.
Мама продолжала:
— Максина, милая, это мой давний друг, сэр Ральф Стрейндж. Он только что вернулся из-за границы.
— Здравствуйте, — сказала я.
— Здравствуйте, — ответил он и посмотрел на маму, и та торопливо проговорила:
— Не пойдешь ли вместо меня покормить цыплят, дорогая?
Было всего четыре часа, а цыплят раньше шести никогда не кормили. Впрочем, я догадалась, что это предлог, и ушла, оставив их наедине.
На кухне суетилась Марта. Увидев меня, она заявила:
— Цыганка нагадала скорую свадьбу в нашем доме — помяните мои слова, мисс Максина!
— Какая цыганка? — спросила я. — И какая свадьба?
— Цыганка, что заходила к нам на прошлой неделе, — отвечала Марта, — с ярмарки.
Тут я вспомнила, что действительно видела цыганку, и с некоторой тревогой спросила:
— А чья свадьба, Марта?
— Чья ж еще, как не вашей матушки, — пояснила она.
Я не поверила, но цыганка оказалась права — через месяц моя мать и сэр Ральф поженились. Меня отослали в Париж, а сами уехали в глухую провинцию, где мистер Стрейндж и по сей день служит губернатором.
Все произошло так стремительно, что я не успела оглянуться, как уже была в монастыре, среди совершенно чужих людей, безо всякой надежды увидеть в ближайшем будущем свою матушку.
Кончилось все тем, что меня пообещала «вывести» тетушка Дороти.
Ее имя не сходит со страниц лондонских газет. Ее фотографии постоянно красуются в «Татлере» под заголовками: «Прекрасная хозяйка лондонского дома» или «Красавица супруга известного политического деятеля».
Она действительно очень красива и, безусловно, обладает великолепным вкусом. Лучшее тому доказательство — ее изысканные туалеты и продуманный интерьер ее дома.
Хорошо бы немножко побольше знать о людях, с которыми мне предстоит встретиться.
Интересно, много ли я заведу друзей? Ах, как сейчас мне не хватает Тельмы! У нее острый, наблюдательный ум, и она никого не боится.
А я, если честно, умираю от страха допустить какую-нибудь ошибку. Впрочем, надеюсь на свою интуицию.
В любом случае переживать раньше времени — глупо!
* * *
Пока я еще не могу со всей определенностью сказать, нравится мне здесь или нет.
Вчерашний вечер принес столько новых впечатлений, что я не в состоянии осмыслить ни одно из них. Единственное, что я пока поняла, — мне не очень-то по душе тетушка Дороти.
Она изо всех сил хочет казаться доброй и мягкой, но я чувствую, что это маска, за которой прячется жесткая и холодная натура. Какой смысл в ее блеске и великолепии, если рядом с ней чувствуешь себя неуютно? Все равно что спать, подложив под голову бриллиант вместо подушки.
К этому вечеру она для меня заказала прелестное платье — разумеется, белое, так как я дебютантка, но расшитое зелеными листьями и с чудесной кружевной юбочкой.
Я почувствовала себя в нем настоящей леди. И действительно, еще ни одно платье так великолепно не сидело на мне, выгодно оттеняя рыжие волосы. Мейбл — горничная тетушки Дороти — уложила их на затылке волной. Результат превзошел наши ожидания.
И вот наконец я спустилась вниз. Почти все приглашенные на обед были в полном сборе, великолепно одетые, оживленные, смеющиеся. Правда, говорили они, на мой взгляд, на каком-то странном наречии.
За каждым словом следовало «дорогой», «дорогая» или «божественно», то и дело произносились фразы, в которых для меня ничего смешного не было, однако окружающие буквально покатывались со смеху.
Я отказалась от предложенного коктейля, а тетушка Дороти сказала:
— Дорогая, чем раньше привыкнешь, тем лучше, коль уж ты попала в наше общество.
Я сделала несколько глотков — не скажу, чтоб мне очень понравилось. Улучив момент, я спрятала недопитый бокал за фотографией в рамочке.
Обед был назначен на половину девятого, однако все собрались лишь после половины десятого.
В моем представлении опоздание — вещь недопустимая в приличном обществе, однако никто не возмутился, когда некий джентльмен, которого все называли Гарри, явился чуть ли не через час, небрежно бросив:
— Извините, господа! Я так наслаждался, принимая теплую ванну, что забыл обо всем на свете!